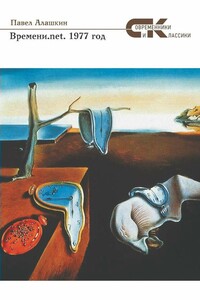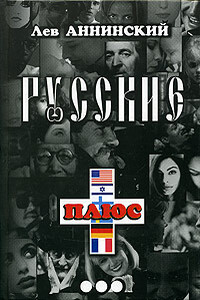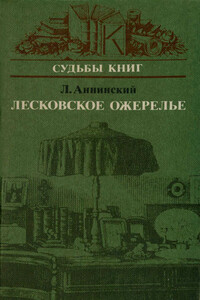Откровение и сокровение | страница 119
Я редко видел радость, особенно в своей литературной работе, естественно, я обрадовался, тем более что другие редакторы тоже высоко оценили мою работу (не в таких, конечно, глупых словах, как упомянутый член редколлегии). Однако я умом понимал: что-то уж слишком! Жалею теперь, что я поверил тогда и поддался редкому удовольствию успеха. Нужно было больше думать самому.
Теперь же вышло, что я двенадцать человек обманул – одного за другим. Я их не обманывал, Алексей Максимович, но вещь все же вышла действительно „обманная“ и классово враждебная. Я не хочу сказать, что 12 человек отвечают вместе со мной перед пролетарским обществом за вред „Впрока“. И чем они могут ответить? Ведь никакой редактор не станет писать (печатать? – Л. А.) таких произведений, которые поднялись бы идеологически и художественно на такой уровень, что „Впрок“ бесследно бы исчез.
Я автор „Впрока“, и я один отвечаю за свое сочинение и уничтожу его будущей работой, если мне будет дана к тому возможность. У редакторов же было не одно мое дело, и они могли ошибиться, но только я их не обманывал. Некоторых из них я не перестал уважать и теперь.
Я хотел бы, чтобы Вы поверили мне. Жить с клеймом классового врага невозможно, – не только морально невозможно, но и практически нельзя. Хотя жить лишь „практически“, сохраняя собственное туловище, в наше время вредно и не нужно.
Если Вас интересует – что-нибудь в связи с моим делом, если я здесь сказал не то, что нужно, то я Вам напишу дополнительно. Глубоко уважающий Вас Андрей Платонов»…
В этом письме нет, казалось бы, ожидаемой просьбы: прочесть повесть. Может быть, Платонов знает цену своим вещам? «Впрок» – действительно «второстепенное произведение» – и на фоне «Чевенгура», и в контексте той главной платоновской трилогии, которую «Чевенгур» начинает и которая в 1930 году в тиши кабинета уже продолжена «Котлованом». «Впрок» – вещь внешне броская, плохо слаженная, сбивчивая: может быть, сказалась спешка при написании, может быть, вынужденная переделка текста, а может быть, непроясненность самой мысли, бессильной преодолеть безумие.
Безумие, бьющееся внутри этой повести, свидетельствует о великой идее и о великой вере. Но – вывернуто. «Кулацкая норма» (пять процентов) «сидит в комиссиях», а «бедняки заявляют свое страдание песнями на улицах». В колхозе кулаки – вне колхоза бедняки; бедняки ждут, когда кулаки доведут колхоз до окончательной нужды и гибели, и все распадется само. Все перепутано, доведено до собственной противоположности; левое и правое меняются местами: сельсовет заботится о том, чтобы люди ели хлеб, как будто без этого они не ели; председатель учит колхозников умываться: моется на трибуне посреди деревни, а колхозники стоят кругом и изучают его приемы. Страна дураков! Радио мужики слушают, но не верят, ибо считают его граммофоном. В одну «душную ночь» сожгли кулацкий хутор, чтобы кулаки почувствовали – чья власть. В центр мира становится «дурак новой жизни»: товары не продаются, потому что «продавать их жалко»: головокруженцы – это подкулачники, черное – это белое, жизнь – это смерть, старый мир кончился безвозвратно…