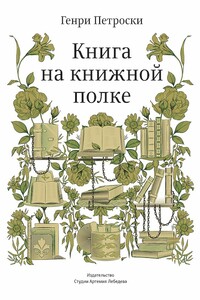Мозг во сне | страница 44
Если его предположения были верны, то тогда повышение дофаминовой передачи должно было бы каким-то образом интенсифицировать сновидения. На самом деле эта способность дофамина была продемонстрирована экспериментом, который в 1980 году провел в университете Тафта психиатр и исследователь сновидений Эрнест Хартманн. Хартманн обнаружил, что если испытуемым перед сном давать соответствующие препараты, то повышение трансмиссии дофамина в мозгу в значительной степени усиливало их способность видеть сны. И хотя количество и продолжительность фаз быстрого сна у тех, кто получал препарат, ничем не отличалось от количества и продолжительности REM у тех, кто получал плацебо, по рассказам можно было судить, что их сны стали намного длиннее, ярче, причудливей и эмоционально насыщенней, чем сновидения контрольной группы.
Убеждение Солмса в том, что ствол мозга сам по себе не способен возбуждать сновидений, окрепло после того, как он столкнулся с еще одной группой пациентов с мозговыми поражениями — а именно с теми, кто продолжал видеть сны даже во время бодрствования. У этих пациентов была повреждена особая группа клеток в основании переднего мозга — именно та, которая, по Хобсону, играла решающую роль в создании сновидений. Хобсон утверждал, что сигналы от ствола мозга проецируются на эти клетки (их называют ядрами базального отдела переднего мозга) и что они, в свою очередь, приводят в действие те структуры переднего мозга, которые необходимы для создания зрительных образов и всего прочего, из чего состоят сновидения. Если теория Хобсона верна, то тогда повреждение этих клеток должно было бы привести к потере сновидений. Однако Солмс обнаружил нечто прямо противоположное: у пациентов с такими поражениями и с поражениями соседствующих структур мозга ночные сновидения были как раз необычайно яркими и частыми, им также трудно было отличать сновидения от опыта, получаемого в период бодрствования. Обычно во сне у нас отключаются представления о том, что реально, а что нет, — поэтому во сне мы твердо верим в то, что снова оказались на школьном выпускном балу, при этом в одном белье, но, проснувшись, понимаем, что этого просто не может быть никогда. У больных, у которых повреждены эти клетки, система проверки на реальность не работает.
К примеру, у Солмса был пациент — тридцатидвухлетний мужчина, получивший в автокатастрофе повреждение базального отдела переднего мозга. После аварии его сны стали не только более яркими; он часто просыпался из-за того, что ему снилось что-то пугающее, но и проснувшись, наяву видел то же, что и во сне. Он рассказывал о том, что его сновидения были «чудовищно реальными», и он приходил в себя, только когда жена трясла его и говорила, что в спальне нет ни привидений, ни каких-то странных зверушек и что все это ему привиделось.