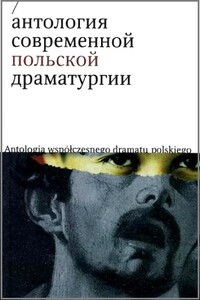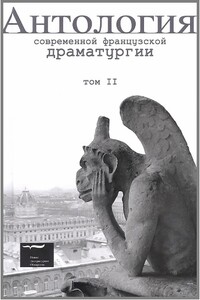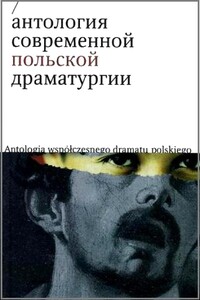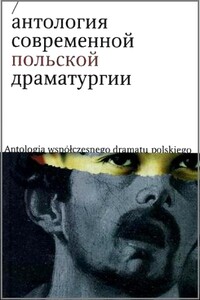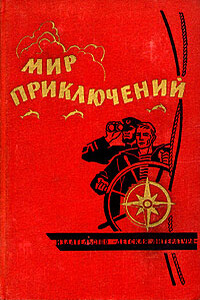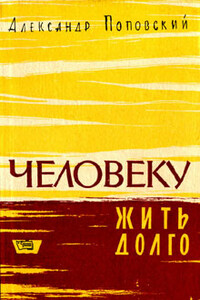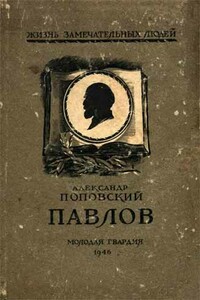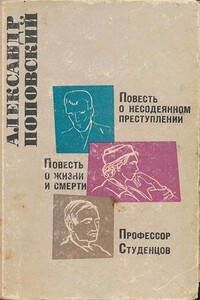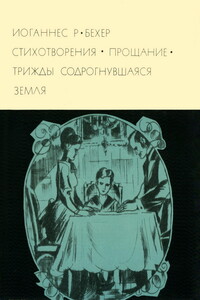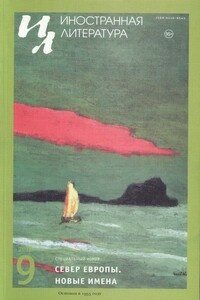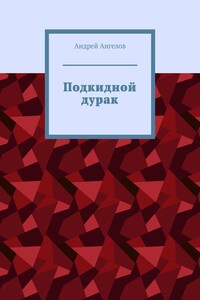Забытые пьесы 1920-1930-х годов | страница 4
Изучение истории пьес привело к уточнению еще одного обстоятельства. В конце 1970-х театроведы, впервые вошедшие в (полуоткрытые) архивы, узнавали, как уродовала цензура сочинения авторов крупных, с «дурной» репутацией нелояльности к советской власти: М. А. Булгакова, А. П. Платонова, М. М. Зощенко, Н. Р. Эрдмана. Но дело обстояло много интереснее. Сегодня можно с уверенностью сказать, что жестко исправляли абсолютно всех. Это объясняет суть происходящего: не годен любой живой (и уже в силу этого — уникальный, единичный) человек. Редактура выравнивала мысли и чувства, усредняя их и тем самым делая их «ничьими», т. е. не существующими нигде, кроме как в нормативных документах эпохи. Нехороши все — не только «отщепенцы» и «внутренние эмигранты», но и искренние, страстные приверженцы власти (скажем, Афиногенов или Киршон, Завалишин или А. Т. Зиновьев), и пластичные эпигоны вроде Майской, чью «Россию № 2» сняли на следующий после премьеры день. Рамки бесспорного столь узки, что в них невозможно уместиться никому, — и все торчащее, вываливающееся за края обрезалось. Индивидуальность не вписывалась в «обобщающий» контекст эпохи, в новые правила общественного действа. Субъективизм любого рода, умение размышлять и принимать самостоятельные решения подозрительны и запретны.
Внимательное рассмотрение совокупности черт и свойств, из которых формируется привлекательный для новой власти (и, наверное, единственно возможный для нее) «посредственный стиль», было задачей нашей книги о становлении советской сюжетики. С помощью текстов, представленных в данном сборнике, хотелось бы показать, насколько трудно, почти невозможно даже авторам, стремящимся согласиться с линией партии, было этот «никакой», посредственный стиль выдержать, не сорвавшись в живое чувство, острую мысль, избежать создания яркого характера.
Сохранились документы, рассказывающие о неустанной редактуре «Списка благодеяний» Ю. К. Олеши, «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры» Булгакова, эрдмановского «Мандата». Но точно так же свидетельства сообщают о девяти редакциях «Партбилета» Завалишина, неоднократно перекроенной Афиногеновым «Семье Ивановых» («Лжи»), вариантах «Константина Терехина» («Ржавчины») Киршона и Успенского, существенных разночтениях между более ранним и поздним вариантами «Сочувствующего» Саркизова-Серазини, принципиальном изменении «Любови Яровой» К. А. Тренева и пр. Институт советской редактуры, появившийся в годы, когда пьесы писались сочинителями неискушенными и малограмотными, спустя десятилетие обрел устойчивость и продолжал работать. Его функции, цели при этом менялись. Если вначале имелась в виду литературная, стилистическая помощь начинающим, то позднее отыскивались и искоренялись «ошибочные тенденции».