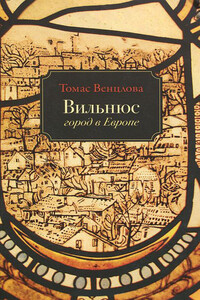Собеседники на пиру | страница 47
Последний процитированный пассаж можно назвать «мета-текстуальным», ибо в нем описывается один из основных признаков сологубовского текста и всей его мифопоэтической системы, наиболее последовательно воплощающей принцип символизма: лица и события просвечивают, любое из них оказывается знаком, субститутом другого. Так, Лаодамия есть земное воплощение или тень Персефоны (с. 65, 67–68 и др.); с другой стороны, в ее облике сквозят черты Психеи (с. 91), небесной Афродиты (с. 112), Эос (с. 120). Отношения Лаодамии и Протесилая в определенном смысле тождественны отношениям Персефоны и Аида, уводящего ее в царство мертвых. С другой стороны, Протесилай, как того и следует ожидать, есть воплощение, личина, тень «восстающего» Диониса (с. 68), и сквозь его статую просвечивает лик бога:
«Этот восковой кумир, очертания лица которого нам смутно видны из-под осенения плюща, скажи, кто он? Не Диониса ли он изображает?» (с. 99)[183].
Вызывание мертвого Протесилая есть вызывание Диониса-Загрея (с. 102–103). Эта же игра двойничества и отождествлений продолжается и вне основного хода трагедии. Двойниками, знаками «страдающего бога» оказываются и Прометей (с. 66), и Феб (с. 67, 74, 107 и др.). На другом уровне Афродита является, «повторяя лицом и одеждою аспект рабыни Ниссы» (с. 87), причем «под старческими чертами сквозит величие небесной красоты» (с. 88). Можно добавить, что ваятель Лисипп, создатель двойников, сам оказывается двойным двойником: как возлюбленный Протесилая, он дублирует Лаодамию, а его приход со статуей к Лаодамии предвещает и дублирует приход Протесилая.
В целом земная жизнь героев лишь отражает архетипическую драму — разлуку и соединение души и Диониса, плененной невесты и ее освободителя. Здесь Сологуб вполне верен духу дионисийской трагедии в том ее истолковании, которое составляло стержень русского символистского мифа.
Можно сказать, что мотив тени у Сологуба претерпевает зеркальное обращение. «Теневой мир» оказывается всеобъемлющим, а «светлый мир» (ср. с. 68) выступает как его тень, преходящий знак, несовершенное отражение: ср. характерно сологубовские мотивы докучного дневного светила (с. 80), тягостного земного воздуха[184] (с. 117) и т. п. Рекурсивная цепь отождествлений и символизации ведет к снятию всех оппозиций в окончательном единстве — к Дионису, «символу символа» и «мифу мифа» (см. Ronen, 1985, с. 121; Venclova, 1989, с. 212). Для Сологуба в «Даре мудрых пчел» Дионис тождествен с чистой знаковостью, т. е. с отсутствием и небытием (ср. с. 110, 116). «Как воск, тают личины. Персефона, видишь ли ты Лик?» — вопрошает Аид (с. 74).