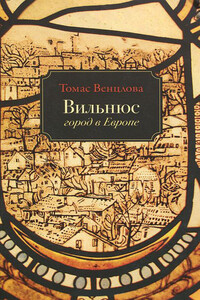Собеседники на пиру | страница 23
Следует сказать, что в литературе энтропия часто трактуется манихейским образом — не как автоматическое, безличное нарастание беспорядка, а как действие некоей злой, самостоятельной и сознательной силы[69]. Норберт Винер не случайно помещал категорию энтропии в контекст богословских споров, восходящих к борьбе августинизма и манихейства[70]. «Демоны пыли» Брюсова — на следующем уровне интерпретации — предстают как оккультные существа манихейского плана. Это смыкание позитивной науки и оккультизма может показаться несколько парадоксальным, но оно весьма характерно для Брюсова и его времени. Известно, что как культ науки, так и оккультизм построены на идее, что человек способен до конца познать тайны мира и овладеть природой (ср. «Ключи тайн» и многие другие брюсовские тексты); с христианской точки зрения эта идея неверна.
В пределах русской литературы основным подтекстом для «Демонов пыли», по-видимому, является творчество Лермонтова (ср. замечание Мережковского: «Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле»[71]). Стихотворение входит в цикл, названный «Книжка для детей», — кстати говоря, весьма недетский (это заглавие вызвало возражение цензуры[72]). Тем самым оно связывается с лермонтовской — тоже отнюдь не для детского чтения предназначенной — поэмой «Сказка для детей». Поэма эта представляет собой ироническую параллель к «Демону»: высокому образу «духа изгнанья» здесь противопоставлен «мелкий бес из самых нечиновных» (в тексте проходят мотивы его «бестелесности», «разновидности», «безобразия», т. е. отсутствия образа, а также — в строфе 3 — упоминается и пыль). Если брюсовские «демоны снега и света» явно отсылают к «духу изгнанья» (Под ним Кавказ, как грань алмаза, / Снегами вечными сиял; Тех дней, когда в жилище света / Блистал он, чистый херувим), то «демоны пыли» в значительной степени восходят к «мелкому бесу». Как мы уже говорили, лермонтовский и брюсовский мотив был вскоре разработан другими классиками русского символизма. Он сквозит в знаменитом докладе Мережковского о Гоголе, превратившемся в книгу «Гоголь и черт» (1906). Здесь тема «мелкого беса» преподнесена не в оккультно-манихейском, а скорее в традиционно-богословском ключе: дьявол есть абсолютное небытие и пустота, абсолютная безличность, неопределенность, скрывающаяся за разнообразными масками, однако неспособная оформиться и стать бытийственной силой.
«Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессильи, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы