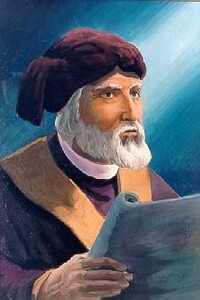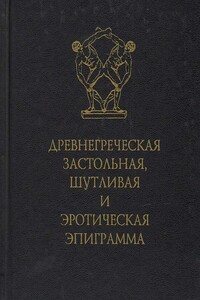Иероглифика | страница 17
Вряд ли нам стоит описывать историю геральдической литературы – она и без того хорошо известна. Влияние Альсиати на XVI–XVII века – особенно на светскую и религиозную литературу – прекрасно показано Марио Празом в его «Исследованиях образности XVII века» (Лондон, 1939). Праз продемонстрировал зарождение нового метода изучения символических образов и его распространение по всей Западной Европе. Следует помнить, что период Ренессанса характеризовался разработкой новых метафор и фигур речи, которые переориентировали философию и науку – причем сначала философию, а затем науку. Концепция «таинственной Природы», содержащей в себе скрытые смыслы, перекочевала в Америку и проявилась в трансцендентальном движении и творениях Эдгара По. Но после XVIII века эта традиция растворилась в доминирующем методе познания, основой которого стала математическая наука. Никто больше не верил, что цикл жизни гусеницы сформирован Богом так, чтобы человек мог извлечь из него истину о бессмертии, или что кометы предвещают бедствия и рождение царей; или что даже цветы в трещинах стен могут дать урок по теологии. Расцвет естественных наук убил моральную интерпретацию природы. Распространение мирского образования поставило крест на теории мудрости, зарезервированной для «нескольких счастливцев». Вследствие этого геральдическая литература превратилась в курьез истории вкусов и перестала быть методом интеллектуального познания истины.
Хотя это издание адресовано в основном историкам искусств, я надеюсь, что читатели оценят и его философскую важность. «Иероглифика» послужила реальным доказательством теории, которую Фикино приписал авторству Плотина. Когда позже Беллори – ярый представитель «идеалистов» – критиковал людей, подобных Караваджо, его главным аргументом было то, что натуралисты потеряли контакт с великой эстетической истиной. Картина красива для идеалиста только тогда, когда она вмещает Идею, делает ее видимой и подводит ум наблюдателя к постижению платонической формы. В наше время никто не будет оспаривать тот факт, что человеческий ум не может воспринимать объекты целостно. Караваджо был первым итальянским художником, который разрушил неоплатонические чары. Мы ничего не знаем о его жизни, но можем быть уверены, что он не чувствовал исторической дистанции между собой и Золотой легендой. Если бы он нарисовал Деву как итальянскую селянку, а не как Regina Coeli то это объяснялось бы тем, что Дева для него была историческим персонажем, а не символом. Для Беллори подобное отношение являлось духовным ослеплением, и поэтому он проклинал Караваджо. Я не знаю, видел ли он картины Брегеля, но если видел, то, наверное, понял, что они, по сути, являлись библейскими сценами, изображенными на современный лад. Ребенок думает, что имеется способ «нарисовать человека». Так же и идеалист считает, что имеется способ нарисовать Святую Деву. Метод идеализации вовлекал нечто большее, чем иероглифы. Многие итальянские и французские художники XVI–XVII веков без колебаний согласились бы с ним. Наблюдение за так называемым вечным стандартом в искусстве всегда заканчивалось фиксацией типа, и когда типажи были фиксированы, они превращались в иероглифы. Романское движение привило нам нетерпимость к эстетам. Как сказал Пановски, мы требуем от искусства большей гибкости