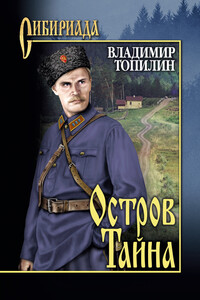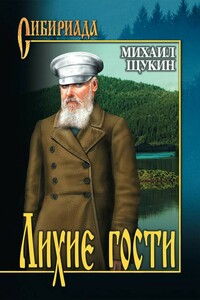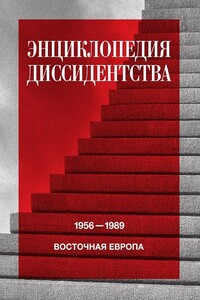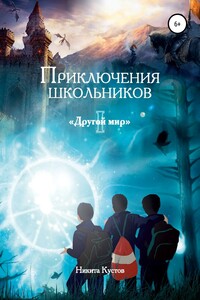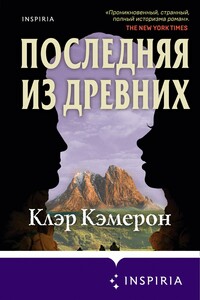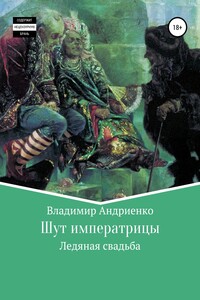За Уральским Камнем | страница 8
Сани остановились. Шум, ржание лошадей. Шорин уже не спал. Его приятель Юрий Шатров-Лугуев тряс полог саней, крича:
— Василий, проснись! Ямщики выпрягают лошадей! Они уходят.
«Где я?» — подумал Шорин, просыпаясь: — Юра, что там?
— А ничего! Твоя Сибирь нас встретила, вылазь из саней и любуйся!
Шорин вылез без желания, размял ноги. Кругом стояла тишина, только голодные кони храпели, стоя в загоне.
— Однако здравствуй, дорогая, со свиданием! Я тебя такой и представлял!
В расстегнутом тулупе князь стоял посреди двора. Ямщицкий стан пуст. Ни людей, ни лошадей.
— Обыскать всю округу! — приказал Шорин. — И еще… Коней накормить. Казаков отправить в дозор. Проверить, все ли на месте: конская управа, печь, чугун! Исполнить быстро! Всех местных, кто остался, словить — и ко мне.
Князь Василий Шорин надел поверх тулупа кольчугу, сверху латы, шлем, подвесил к поясу кривой татарский меч, сунул два пистолета. Для него пойти в бой — все равно что на службу в Казанский дворец.
— Князь, казаки словили двух вогулов!
— Давай их ко мне быстро и толмача, — крикнул князь.
Привели. Два вогула, отец и сын, стояли, опустив головы.
— Старший — местный князек, они с прошением, — произнес толмач.
— Что?! Прошение?! Против царя! Против закону! Шерть давали, сучьи дети?! Старик остается у нас, а тому втолкуйте. Либо всех обратно вернет, либо его отец на кол через пять дней посажен будет.
Сын был отпущен, а старого вогула заперли в амбаре.
Вдоль восточного предгорья Урала, по рекам Тагил, Сосьва, Пелым проживали табаринские татары и вогулы. С приходом русских в этом районе стали развиваться соляные варницы и землепашество. Местные татары и вогулы, живущие вдоль дороги, вместо ясака обязаны были пахать по примеру русских крестьян пашню на государя и поставлять подводы на большую дорогу. Это мешало их привычному укладу жизни и явилось причиной множества конфликтов, прошений и самовольного отселения от большой дороги. Выплата ясака в виде пушного зверя исторически была привычна для местного населения, но нехватка рабочих рук заставляла привлекать их на все виды других работ в самых тяжелых формах.
— Ладно, дай прошение, почитаю, — сказал Шорин.
Князь неспеша взял грамоту и развернул ее:
— Ты смотри, почерк Петрушки Шаховского! Он мне хорошо знаком. Вот уже лет пять, как писарем в Верхотурье служит. Ну почитаем: «Государю Царю и великому князю Федору Ивановичу всея Руси бьют челом сироты твои, государь, татары и вогулы, мурзы и сотники. Велено нам, государь, пахать государеву пашню вместо ясака, а также подводы требуют на дорогу, а по осени, государь, мы на гумна возим твой государев хлеб, молим и в клади кладем. Теперь татары и вогуличи, жившие у дороги, разбегаются, живут по лесам в незнаемых местах. Милостивый царь государь, пощади сирот своих, не помори сирот напрасной смертью, вели, государь наш, вместо пашни и подвод ясак соболями платить, как раньше было, чтоб мы, сироты твои, государь, голодной смертью не померли».