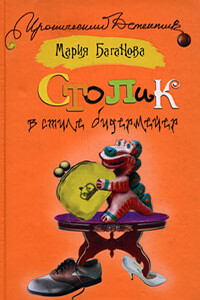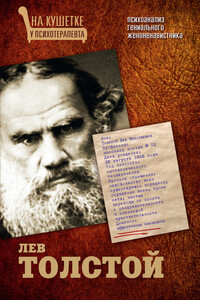Пушкин. Тайные страсти сукина сына | страница 118
– Мерзейший содомит барон Геккерн! – выкрикнул Пушкин. – Я прямо написал ему об этом и вызвал на дуэль его так называемого сына. Пистолеты, черт, дороги!
– Ах, батюшка мой, опять дуэль! – расстроился я. – Смертоубийство… Гадость…
В ответ Пушкин показал мне массивную трость с серебряным набалдашником. Он легко поднял ее в вытянутой руке и некоторое время держал навесу.
– Моя рука должна быть сильной, чтобы не дать промаха при выстреле, – объяснил он.
– И вы готовы убить? Помните, что вы сами писали о гении и злодействе!
– Злодейство – спустить подлецу! – почти выкрикнул он.
– И когда же будет эта ваша распроклятая дуэль? – смиренно спросил его я.
Пушкин отбросил трость, словно мой вопрос был для него болезненным. Она упала, произведя довольно сильный грохот.
– Этот пройдоха самым откровенным образом струсил! – рассмеялся он. Смех его звучал зло и отрывисто. – Он принялся умолять меня об отсрочке, интриговал, пытаясь меня отговорить. Обращался к моим друзьям… До того унизился, что как-то на балу довелось мне обронить какую-то безделицу, так этот подлец ее поднял и протянул мне, надеясь хоть таким образом завоевать мое расположение.
– И что же вы?
– Не стал брать! Вырвал из его руки и специально уже бросил на пол! – объявил Пушкин, явно гордясь собой.
– Александр Сергеевич, – остановил его я, – но вы же сами себе противоречите. Не могу сказать, что я вовсе не слыхивал об этом пасквиле, но почему вы обвиняете в его составлении господина Геккерна? Коли он голландский посланник, то дураком уж быть точно не может. Зачем же ему было давать вам такой веский повод для вызова на дуэль, а ваша горячность хорошо известна, а потом, как вы выражаетесь, интриговать, пытаясь отговорить вас от этой дуэли?
Пушкин побледнел.
– А кто же это мог быть? – растерянно спросил он. – Кто?
– Ну откуда же мне знать, милостивый государь! – воскликнул я. – Сами вы утверждали не раз, что люди злы и завистливы, что привыкли вы думать о них самое плохое.
Взревновать к вашему таланту и семейному счастью мог любой.
– Все равно выходка непростительна! – гневливо возразил Пушкин. – Поведение моей жены было безупречно, а поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса, то и отвечать придется ему. Я, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно, и оскорблять себя я не позволю!
Я принялся уговаривать его, твердил что-то о церкви, о смирении. Рекомендовал уехать в деревню.
– Я просил отпуск, мне не дали, – несчастным голосом ответил Пушкин. Лицо его изменилось, приняв горестное, почти детское выражение. – Он меня не отпускает.