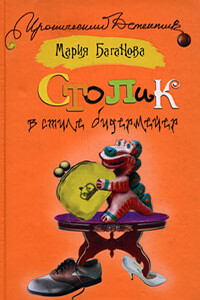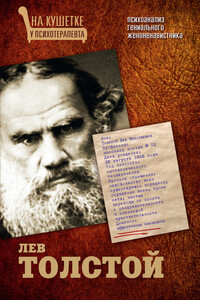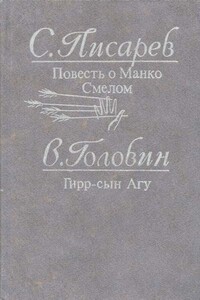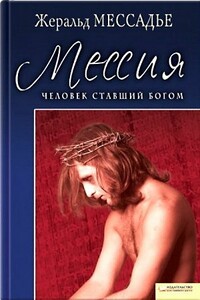Пушкин. Тайные страсти сукина сына | страница 103
И потом, чтобы развеселить меня, Александр Сергеевич рассказал мне еще один анекдот из своей замечательной родословной. Историю эту слышал он от бабушки Марьи Алексеевны, происходившей по матери из рода Ржевских.
– Она дорожила этим родством и часто любила вспоминать былые времена, – говорил Пушкин. – Так, передала она историю о дедушке своем, любимце Петра Великого. Монарх часто бывал у Ржевского запросто и однажды заехал к нему поужинать. Подали на стол любимый царя блинчатый пирог, но он как-то не захотел его откушать, и пирог убрали со стола. На другой день Ржевский велел подать этот пирог себе, и какой был ужас его, когда вместо изюма в пироге оказались тараканы – насекомые, к которым Петр Великий чувствовал неизъяснимое отвращение. Недруги Ржевского хотели сыграть с ним эту шутку, подкупив повара в надежде, что любимец царский дорого за нее поплатится.
Мы оба весело смеялись над этим давнишним происшествием, представляя, как силен мог быть гнев Петра Великого, кабы все не разрешилось так счастливо. Пушкин принялся за другой анекдот.
– Однажды маленький арап, то есть мой прямой предок по матери, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь! Государь, из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал: «Врешь: это не кишка, а глиста», – и выдернул глисту своими пальцами.
Мы снова посмеялись.
– Анекдот довольно нечист, но рисует обычаи Петра, – полуизвинился Пушкин.
В ответ я тоже рассказал анекдот о нашем великом государе, приведя шутку знаменитого шута Балакирева о Петербурге: «С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, с четвертой – ох!» Пушкин вспомнил историю, слышанную им от князя Голицына, о неком отставном мичмане, который, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу.
– Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал: «Ну! Этот плох. Однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был пророк, что и в мичманы-то попал я только при отставке!»
Я тоже ответил какой-то старинной историей.
– Вы не поверите, как мне хочется написать роман, – поведал мне Пушкин, – но нет, не могу: у меня начато их три. – начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу.
– А о ком или о чем вы бы стали писать роман?
– Да именно что о Петре Великом! Но нет… тут не справлюсь. Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, – надо отодвинуться на два века, – но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром что товарищи мои все поседели, да оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я… Я стою вплоть перед изваянием исполинским, которого не могу обнять глазом, – могу ли я списывать его? Что я вижу? Оно только застит мне исполинским ростом своим, и я вижу ясно только те две-три пядени, которые у меня под глазами. Однако начал я роман «Ибрагим» о моем прадеде… посмотрим, выйдет ли.