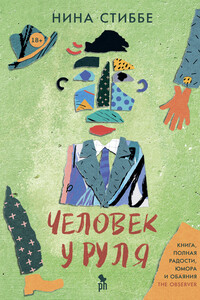Пляски бесов | страница 51
Как так вышло, теперь не знает никто, но доподлинно известно, что Дарка, выметаясь из церкви, снесла с ног пятилетнюю Стасю, которая, встав с лавки и пройдя по проходу, по которому никто из живых не должен был в тот момент ступать, приблизилась к сестре своей, чтобы звать ту домой. Ведь единственным человеком в этом церковном пространстве, у которого не оставалось сомнений в том, что Дарка – это Дарка, а не Рус или бес, была маленькая девочка Стася.
Сметенный страшной силой, которую не сумели обуздать и пятеро крепких мужчин, ребенок отлетел к стене и стукнулся головой. Вот этот звук и стал самым страшным из тех, что прозвучали в Солонке в тот день. Куда до него было визгу свиней, мычанью коров, басу Руса или раздирающим молитвопениям отца Василия! Но только один человек содрогнулся от него – бабка Леська, которая, как ни странно, в тот день тоже была здесь и являлась той, имя которой до поры до времени решено было не раскрывать.
Дарка же, выбежав из церкви, на одном духу миновала двор, выскочила на дорогу, и там была сбита проезжавшим микроавтобусом. Не то чтобы он ехал на большой скорости, но сил в нем оказалось побольше, чем у Дарки, голова которой от удара свернулась назад. И вот теперь-то, глядя на эту худосочную женщину, скорченную смертью, не понять было – а что ж в ней оказалось такого, чтоб настолько напугать отца Василия и деда Панаса, который, как мы уже знаем, еще и не то видел? А может, они углядели того, кто невидим взору других? Трудно, сложно тут разобраться. Можно было б, конечно, порассуждать, что, мол, не в Дарку отец Василий заглянул, а в самого себя. Что, мол, Даркино настоящее он принял за свое прошлое, которое не то что туманец с озерца. Прошлое вот так просто из себя не выдохнешь. Никогда, никогда нам не узнать доподлинно, что привиделось им в тот день, когда погибла Дарка. Не понять, не разобрать. И пытаться даже не стоит, ведь все попытки упрутся в досужие рассуждения.
Дополнить картину наших размышлений можно лишь фактами. Поэтому призовем их на помощь. Они таковы. Покидая церковь, бабка Леська назвала Панаса в глаза иудой.
– То было зло, – как бы извиняясь, проговорил тот ей в черный след.
– Не иметь совести – вот абсолютное зло, – обернувшись, плюнула Леська ему под ноги.
Василий Вороновский ей тогда ничего не сказал, но плевок в обители своей он ей позже припомнит и обожжет губы крестом так, что частью сделает за ад его работу – там Леська покажется уже с черным ртом. Но разве не таким он был у нее всегда? Черным-черным, злым, коверкающим Евангелие Божие. Но всегда ль? Неужто и в тот день, когда пыталась она спасти из огня двух сестер своих родных и племянника? Не тогда ли наполнился ее рот погаными словами, а душа – почернела? Но если так, то можно ли бабку Леську судить за грехи, последовавшие после пожара? Не смывает ли их то, что было вначале – в той деревянной хате, подожженной рукой советского командира? И можно ли смыть новые грехи старыми добродетелями, или же и добродетели непременно должны быть новыми? Загвоздка в том, что для ответа на эти вопросы требуется безоговорочная вера в ад и рай…