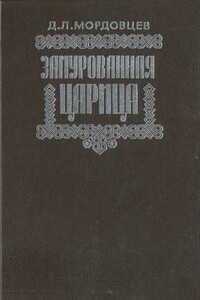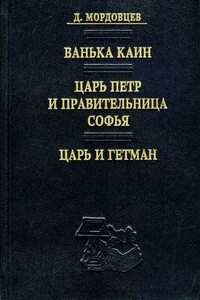Видение в публичной библиотеке | страница 4
Что выражает ее неуловимая улыбка? А то, что она умнее всех, могущественнее и, как женщина, хитрее. Значит, была хитра, коль одурачила этого мраморного старика, этого злюку, ядовитого язычка которого боялась вся Европа. Храповицкий наивно записал в своем "Дневнике" эту ее ловкую проделку под 6 февраля 1791 года: "Австрийцы за нас не вступятся, говорила Семирамида Севера Храповицкому в то время, когда тот занимался "до поту перлюстрацией", - им обещан Белград от пруссаков, кои с согласия Англии берут себе Данциг и Торунь. Я послала письмо к Циммерману в Ганновер по почте, через Берлин, дабы через то дать знать прусскому королю, что турок спасти он не может. Я таким образом сменила Шуазеля, переписываясь с Вольтером"*.
_______________
* Дневник Храповицкого, изд. Барсукова, 357.
Чисто женская проделка! Ловкая Семирамида знала, что и Фридрих-Вильгельм Прусский занимается в Берлине, как и она сама в Петербурге, "перлюстрацией" чужих писем и непременно прочитает ее коварное письмо к Циммерману, как и в Париже, прежде, читали ее письма к Вольтеру. А мудрый философ думал, что она пишет ему лично: нет, ей хотелось свалить Шуазеля этим письмом, и она свалила его.
В другом месте, под 5 августа того же года, у Храповицкого записано: "В продолжение разговора я напоминал государыне о смене Шуазеля перепискою с Вольтером, и что ныне по корреспонденции с Циммерманом сменили Герцберга. "И в п р я м ь т а к, - изволили сказать, - я и з а б ы л а".
Где же помнить всех, кого вы провели и вывели!
Седая борода постояла перед портретом, постояла, покачала задумчиво головой и снова присела к столу, где лежала большая старая книга с жесткими пожелтевшими листами. И опять та же невозмутимая могильная тишина и те же слабо доносящиеся извне отзвуки жизни, замирающий стук экипажей, замирающий в воздухе глухой звон далекого колокола.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он...
Далекою стариною, молодостью повеяло от этого стиха, словно от засохшего и полинялого лепестка розы в пожелтевшем от времени альбоме.
А эти книги на полках, массы книг, это же засохшие лепестки жизни, следы дум, страданий, счастья: это стоят на полках высушенные человеческие головы, сердца и остовы покойников.
Седая борода, отодвинув от себя книгу, откинулась на спинку кресла и задумалась. Ни над чем так хорошо не думается, как над умной книгой.
Но что это, как будто стукнуло там, в той половине залы, где сидит мраморный старик? Нет, это не так, это треснул на полке где-то пересохший переплет книги.