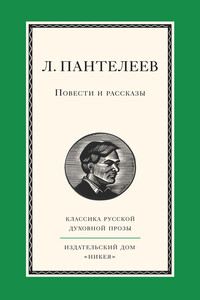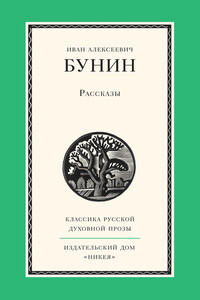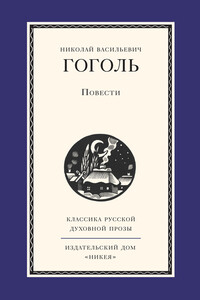Дорожный посох | страница 34
В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».
— Войдите!
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка[69], и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец.
— Тебе что, чадо? — спросил меня каким-то густо-клейким голосом.
— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.
— Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный, Утешителю…» Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».
Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:
— И кафтан можно надеть?
— Какой? — не понял регент. — Тришкин?[70]
— Нет… которые певчие носят… эти голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
— Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:
— Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!
Кому-то сказал, перехватив через край:
— Приходите, в воскресенье меня — слушать!
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:
— Ты куда?
— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
— Эк тебе не терпится!
Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня.
— Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!
— Ничего. Я подожду.
Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.
— Ты что это в кафтане-то?
— Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!
— Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну, что же, «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!»
Началась Литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости — вот-де, достиг! — а тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались Царские врата Литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня…