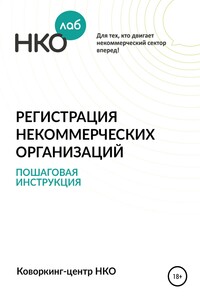Религиозная тайна | страница 27
Проведенный анализ статуса священнослужителя лишь в некоторых конфессиях показывает, что закрепление единого определения термина «священнослужитель» невозможно, поскольку данный термин относится непосредственно к внутренней деятельности религиозных объединений и законодательное закрепление может создать дополнительные сложности, поскольку государство не вмешивается во внутреннюю деятельность религиозных объединений.
Таким образом, вопрос присвоения статуса священнослужителя должен решаться самими религиозными объединениями. Исходя из того, что данные термины непосредственно связаны с внутренними установлениями религиозных объединений, их законодательное закрепление может создать дополнительные сложности, поскольку государство не вмешивается во внутреннюю деятельность религиозных объединений.
Как указывалось выше, в законодательстве не содержится раскрытие понятия «тайна исповеди». Очевидно, что не всякая доверенная тайна подпадает под это понятие. Например, согласно Новому Завету христианину следует открывать свои грехи также и перед своим ближним: «Признавайтесь друг перед другом в проступках…» (Послание Иакова 5: 16). Однако такое признание не является исповедью в каноническом понимании и в понимании законодателя. Для этого необходимо учитывать ряд формальных признаков: статус доверителя тайны и доверенного лица, место, время, цель и иные обстоятельства, которые характеризуют данный акт именно как исповедь. Хотя ряд теоретиков церковного права еще на рубеже ХХ в. утверждали, что священник не может показывать и о том, что ему сказано и вне исповеди, но в виде признания, сделанного духовному отцу.
В свете сказанного представляется интересной позиция законодателя Эстонии, который существенно расширил границы тайны исповеди. Так, согласно ст. 22 Закона от 12 февраля 2002 г. «О церквях и приходах»: «Духовное лицо не имеет права разглашать доверенное ему во время частной исповеди или душеспасительной беседы, а также называть лицо, приходившее на частную исповедь или душеспасительную беседу»[69]. В данном случае законодатель не ограничился только тайной исповеди, а пошел дальше.
В вопросах тайны исповеди необходимо исходить из того, что срок хранения тайны исповеди и ее объем не ограничены. Ведь при определенных обстоятельствах, даже спустя длительное время после покаяния неосторожный намек священнослужителя может повлечь за собой негативные последствия для когда-то покаявшегося человека. Один из примеров такого рода приводится в книге немецкого криминалиста Г. Шнейкерта: «Один молодой и очень любимый аббат был окружен в салоне дамами, которые мучили его вопросами о том, каково было содержание первой принесенной ему исповеди. После долгого сопротивления аббат решил, что религия не запрещает говорить о грехах, в которых принесено покаяние, но лишь не следует при этом называть имени исповедовавшегося, поэтому он рассказал, что первым сообщением ему на исповеди грехов была супружеская измена. Несколько минут спустя в залу входят запоздалые гости: маркиз Х. и его молодая жена. Оба они обратились к аббату с упреком по поводу того, что он редко навещает их, причем маркиза громко воскликнула: „Это некрасиво, что вы так невнимательно относитесь ко мне, вашей первой духовной дочери!“