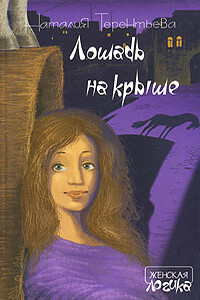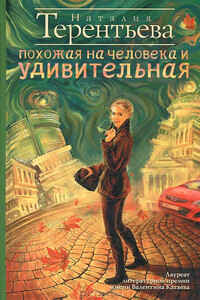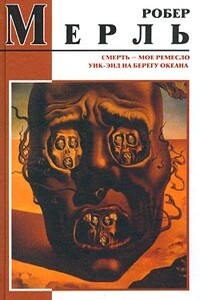Нарисуй мне в небе солнце | страница 44
– Я ем…
Спокойно есть мне мешали не только острые запахи и незнакомые названия блюд, но и разложенная большая кровать, которую Гоги не заправил с утра. Кровать стояла прямо рядом со столом. Я старалась не смотреть на смятые простыни и небрежно брошенное одеяло.
– Потанцуем? – спросил Гоги и включил музыку. Он подошел ко мне, протянул руку.
Мы потанцевали. Музыка была французская, Шарль Азнавур пел негромко о чем-то хорошем, я слышала слова «любовь», «прости», «помню»… Танцевал Гоги так же, как ходил, – лениво, слегка только перебирая крупными тяжелыми ногами. Танцевать с ним мне было приятно, немного волнительно. Я бы и дальше танцевала.
– Пойдем, – сказал Гоги и с неожиданной сноровкой переместил меня в сторону кровати.
Я не поняла, как очутилась уже в горизонтальном положении, и смотрела со страхом снизу вверх на Гоги. Как-то все пошло не так…
Гоги не очень ловко меня обнял, оказавшись очень грузным, и попытался поцеловать. И я испугалась. Меня мама предупреждала, и не раз: «Принесешь в подоле – домой не пущу!» Откуда у моей интеллигентной мамы было это деревенское выражение «принести в подоле» – не знаю, скорей всего, из прочитанных книг, оно ей нравилось, мама любила яркие выражения, если они были кстати.
Мама начала уроки нравственности очень рано, когда я точно не понимала, почему дети получаются похожими не только на маму, но и на папу. И я так с самого детства и представляла: вот стою я у порога, в легком летнем платье, бело-голубом или светло-бежевом, в цветочек. Платье длинное, до середины икры. Я подол приподняла, чтобы завернуть в него младенца. Больше завернуть не во что. Другой рукой надвигаю платье, пытаюсь прикрыть ноги. Мне горько и стыдно. Я звоню в дверь. А мама открывает, подбоченивается и говорит: «Не пущу!» И захлопывает дверь. И я не знаю, куда мне идти.
– Нет! – сказала я Гоги, вознамерившемуся меня страстно поцеловать, и отпихнула его.
Мой кавалер яростно взглянул на меня и воскликнул:
– Я бы тебя раньше убил, когда был моложе!
Думаю, что тогда ему было года двадцать три.
– А сейчас – иди! Иди! – Гоги слегка подтолкнул меня.
Я побыстрее встала с душно пахнущей кровати – не думаю, что он слишком часто менял на ней простыни и наволочки, – и ушла. С тех пор мы с Гоги даже не здоровались.
Второй мой кавалер Аслан Тумаев ухаживал красиво, как положено. Провожал до дому, хотя ехать в наш новый район из университета было очень далеко. Иногда дарил цветы и шоколад. В ресторан не приглашал, мы пили с ним кофе с пирожными в буфете на нашем факультете и говорили о чем-то интересном. Аслан изучал историю КПСС, но был начитанным и остроумным. Мне, к сожалению, он не очень нравился, меньше, чем Гоги. И из-за его мгновенно отрастающей бороды иногда мне казалось, что я вижу, как лезет, лезет эта его иссиня-черная щетина, вот только ничего еще не было, а глядишь – уже скулы потемнели, и я вижу толстые коротенькие волоски, яростно пробивающиеся сквозь смуглую кожу.