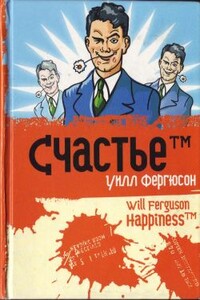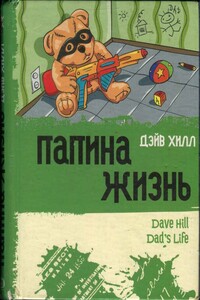Радость моего общества | страница 70
Затем я нашарил свое сочинение, которое, как я обнаружил, не просто торчало из кармана, а готово было вывалиться на пол. Я застегнул пиджак и заметил, что моя ширинка стала складчатой, как аккордеон, плюс штаны сидят слишком низко. Я поддернул их, взявшись за пояс, и растянул книзу, чтобы брючины расправились. Несколько складок таким образом было ликвидировано. И я почувствовал, что готов читать. Свою речь я начал с "эхем" — нарочито прочистив горло, я, как мне думалось, выказал власть над аудиторией. Первые несколько фраз я произнес уверенно, хотя голос удивил меня своим сопрановатым тембром. Затем, разглядев в зале восхищенные лица, я почувствовал, что распаляюсь. Как-никак я был лидером. Всё больше души вкладывал я в каждое слово, и это было ошибкой, потому что тут я начал понимать, что в моей речи нет никакого смысла. "Я средний, потому что голос индивидуальности струится в моей крови"? Я средний, потому что я уникален? Эдак можно назвать средним кого ни попадя. Мои хитроумные фразочки, которые должны были звучать неотразимо, по сути оказались пустыми. Всю жизнь мой внутренний семантик старался вынюхивать эти перекрученные конструкции и очищать от них мой мозг, и вот тебе — я стою посреди сцены, и они свисают у меня изо рта как недожеванная лапша. Путаница слов и значений вихрем завертелась у меня в голове. Поэтому я нагнулся и потянул за штанины. В опрокинутом виде мне думалось яснее. Я вспомнил, что речь моя замышлялась не как трактат, но как стихотворение. Больше Романтизма. И, будучи Романтиком, я обладал куда большей лингвистической свободой, нежели математик у классной доски. По-прежнему вверх тормашками я напомнил себе, что нахожусь перед слушателями, которые желают, чтобы их пленяли, а не поучали. Я решил пойти вглубь, к самому источнику своей харизмы и, окунув туда пальцы, благославляюще окропить ею аудиторию.
Я расщелкнулся. Мой голос стал глубже, мошонка расслабилась. Я говорил голосом римского сенатора.
— Я средний, — говорил я, — ибо голос индивидуальности струится в моей крови, как древняя река... как тихая сила яблочного пирога, выставленного на окно, чтобы остудиться.
Я сложил свои бумаги и сел. Последовали теплые аплодисменты, которые было сложно измерить, потому что никогда в жизни я не удостаивался аплодисментов. Гюнтер Фриск, аплодируя быстрыми шлепками, потянулся к микрофону:
— Будем надеяться, что он имеет в виду теппертоновский яблочный пирог!