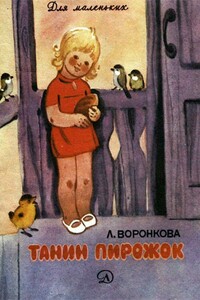Две березы на холме | страница 89
Хоть один жест, который бы говорил, как он стремится мне на помощь? Ручка, например, упала с парты — бросился бы ручку подать. Весной лужа на пути — почтительно предложил бы позволить ему перенести меня через лужу: «Допустите, о повелительница моего сердца, послужить вам…» — и бац на одно колено прямо в лужу… Ах! И только я представила, как Лешка бросается подымать мою ручку и бацает в своих вытертых и выстиранных до белесости, непонятного цвета штанах и растоптанных валенках, как меня разобрал смех. Наверное, я правда с ума схожу! Разве нормальный человек рассмеется после таких объяснений, как у нас с Зиной? Конечно, если б на Лешку надеть камзол из коричневого с золотом бархата, в талию, да с пышными, собранными в крупные складки рукавами, да с белым жабо, к Лешкиной тонкой фигуре, и узкому лицу, и носу с горбинкой это бы очень подошло. Он бы, пожалуй, стал красивым. Но тогда уж ему не передо мной бы вставать на одно колено. А перед надменной и тонкой красавицей в пышных фижмах, с прической-башней из пепельных волос, увитых ниткой жемчуга. Такой мне никогда не бывать.
И вдруг это меня рассердило: ведь сама же решила, что любви у меня не будет! Но тут вдруг возмутилась: все зависит от одежды, от обстановки? Если бархат и фижмы, так любовь красивая, а если валенки, то одни грубости? «Глупости, глупости!» — оборвала я себя. Любовь могла быть совсем не такой, как у Шолохова, хотя и не такой, как у Пушкина. И представила, как бы мы с Лешкой, например, гуляли лунными зимними вечерами и он бы брал мои варежки и согревал своим дыханием… Или бы мы с ним учили уроки. Он плохо пишет, и я бы ему диктовала из учебника что-нибудь полегче, ну, — например: «Пятак упал к ногам, звеня и подпрыгивая». Или: «Она, осина, бывает хороша лишь в иные летние вечера». Или: «…Люблю отчизну я, но странною любовью!..»
Да, странною любовью… Конечно, конечно. Было б очень странно, если б Лешка, такой, какой он есть, любил бы меня. Ведь ничего из того, о чем сейчас я подумала, не возможно. Как фижмы и бархат. Любить — значит любить быть вместе, разговаривать и понимать друг друга. А тут ни он меня, ни я его не понимаем. Да я и не хочу понимать!
И эта Зина Косина настоящая дурочка, если ей нравится такая «любовь». Пожалуйста, любите. Я тут ни при чем. Что, мне теперь уезжать из Пеньковской школы, учиться, что ли, бросать из-за нее и Лешки?! Еще чего! Но тут на меня вдруг снова, как наяву, надвинулось отчаянное лицо Зинки, раскрытые широко глаза, исступление в словах и стиснутых на груди руках — и я осеклась. В Зинке была правда. В ней одной. Не во мне. Не в Лешке. А что значила эта Зинкина правда, я не знала. Сколько угодно могла я рассуждать о бархате и валенках, о красоте и грубости, о Пушкине и Шолохове, об уроках вдвоем и прогулках — и знала, чего хочу для себя, а что ненавижу… Но перед Зиной, хоть и ругала ее и сердилась, чувствовала себя маленькой: не понимала, что испытывала она, говоря со мной. Будто прошла мимо меня, совсем близко, огневая туча, дохнула в лицо неизвестной еще, но грозной мукой… И так горячо пожелала я в этот миг оказаться не здесь! И в самом деле, уехать бы из Пеньков, чтоб не мешать Зине. Как было бы хорошо пойти сейчас же и сказать: «Зина, ты не думай ничего, не мучайся, я уезжаю, и здесь меня больше никогда не будет!»