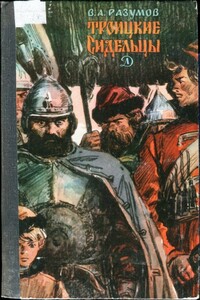Две березы на холме | страница 82
Они были главной приметой над моей дорогой, как раз на полпути от дома до школы. От школы до дома.
Березы вдали от дороги. Далековато. Но кажется мне, что я вижу, как раскачиваются гибкие пряди, как поворачиваются на четырехгранных гибких черешках сердцевидные, зазубренные листочки; вижу крохотные почки, притаившиеся до будущей весны. Вот интересно: весь год они живут, листья лета, которого еще нет. Сидят за пазухой у нынешних листочков, в основании их черешков, почти что и не заметны. Как сжатые, спрессованные пружинки, они терпеливо ждут своего часа, набираясь сил, чтоб враз распрямиться, брызнуть зелеными каплями, превращая и саму березу-мать и все вокруг в зеленый праздник, в летнюю красу.
— Здравствуйте, березы! Мы едем!
Десять километров дороги от совхоза, где мой дом, до села Пеньки, где я учусь, как коромысло, соединяющее два полных, равных по тяжести ведра. И березы в вершине коромысла.
Если б кто мне сказал год назад, что я так буду говорить о Пеньках! Уравняю их по важности с домом! Я б хохотала над тем человеком, как над круглым балбесом.
А нынче — хороший начинается год! Все больше людей возвращается с войны (конечно, раненых). Вернулся и отец Зульфии, дядя Фаттых. У него одна нога стала покороче другой и совсем не сгибается в колене. Это оттого, что он вернулся, мы будем жить вместе с Зульфией. Прошлую зиму она училась далеко от дома, в поселке, где жили ее родственники. И даже на воскресенье не могла приезжать домой.
А дядя Фаттых захотел, чтоб теперь вся семья была в сборе, он один наскучился и очень любил Зульфию, хотел, чтоб она хоть по воскресеньям бывала дома. И еще он знал, что нам вдвоем с Зульфией будет хорошо.
«Друг, — говорил он, — половина твоей души. А может, и больше».
Сейчас половина моей души сидела рядом со мной на телеге и болтала маленькими ножками, посматривала черненькими, умными глазками. Слушала, как девчата поют любимую песню Лены Ахтямовой:
Лены нет, а ее песня осталась. Я вслушиваюсь в знакомые слова: это странное слово «любовь»… Я чувствую, оно стало больше моим, чем Ленкиным, и больше моим, чем песенным. Оно (наверное, вместе с мелодией) почему-то рождает тоску в моем сердце, тоску и сожаление неизвестно о чем. И это оно — или вся песня? — соединяет сейчас меня со всем, что только вижу я вокруг, — от высокого купола неба до мелькающих перед глазами копыт Пчелки и дорожной пыли, оседающей на бурьяне. И оттого, что так много обнимает глаз, и слышишь сразу так много — и песню рядом, и тишину вдали, и говор ребят, тележный стук и дыхание лошади, пофыркивание ее, — и чувствуешь запахи — от леса, от пыли, сена, колесной мази, и дегтя, и лошадиного пота, и осенний пресный запах поля: земли и словно бы раздавленной травы; оттого, что так много всего соединяется с песней и со словом «любовь», что и не вместишь в одно-то свое сердце, в одну себя, — оттого, кажется мне, так трудно сердцу терпеть нежность ко всему сразу. Ведь огромный простор вокруг! И одно есть средство как-то заглушить в себе это непонятное сожаление обо всем, и тоску, и нежность — запеть вместе со всеми и тем самым присоединить себя и к полю, и к небу, и к лесу, и к ребятам. Заглушить, но не избавить…