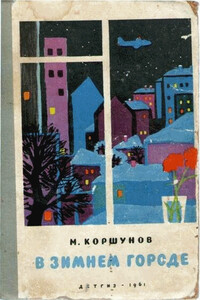Две березы на холме | страница 39
Мама прямо из сил выбивалась, чтобы как-то получше кормить его. Да и нас всех. Время от времени она после работы хватала какую-нибудь вещь — платье свое, шаль или просто кусок ткани, пока не кончились эти довоенные ткани, и бежала в соседние деревни или к кому-нибудь в нашем же совхозе, кто держал много овец, — менять на мясо, на масло. Чтоб кормить всех нас.
И, как всегда, когда думала я, отчего это сделалось, к сердцу будто кипяток приливал от гнева и кулаки сами собой сжимались так, что ногти впивались в ладони и глазам становилось горячо.
— У… гады… фашисты.
Сон и явь
Ночью мне снилось, что я попала в плен к фашистам и меня будут пытать.
Гестапо походило на зубоврачебный кабинет: бело, чисто, блестит стекло и никель инструментов: щипцы, иглы, кусачки; электроплитка раскалена добела. Это чтобы пытать каленым железом.
Ужас сжимал мои внутренности в жесткий комок, было трудно дышать. А мысли метались: «Зачем фашист моет руки? Чтоб пытать чистыми руками? Что за глупость!»
Но фашист, пожилой и лысый, спокойно тер рыжеватые, с веснушками, руки щеткой, как это делают все врачи. На меня он и не смотрел. И кажется, меня никто не охранял. Во сне я не думала, о чем мне надо молчать, чего от меня будут допытываться и, вообще, какую тайну я знаю.
Все это было как будто и неважно, ведь ясно: я ничего не скажу. Одно было важно: не застонать и не закричать.
И вот что мучило меня: смогу ли не закричать? И еще: зачем фашист моет руки? Но я все же смалодушничала во сне, не дала себя пытать: пока фашист мыл свои веснушчатые руки, я, пятясь и пятясь потихоньку к двери, надавила на нее спиной и выскользнула в коридор! И по длинному пустому коридору мчалась бесшумно и невесомо, к далеко светлеющему окну. Прыжок в окно! По ржавым кочкам, сквозь осоку и камыши — к лесу! Погони за мной не было!
В лесу я проснулась. Меня будила мама.
Этот сон я видела в третий или в четвертый раз. Меня он мучил сомнением: выдержу ли я пытку? Но всякий раз я уходила от пытки. Так же как сегодня ночью. Бывало и чуть иначе: на эту жуткую белую пыточную комнату падала бомба — и меня отшвыривало на мягкое болото, поросшее ржавой осокой и камышом.
А мне оставалось по-прежнему спрашивать себя: закричу или не закричу? Другого сомнения — выдам тайну или не выдам? — не было.
Песенка испанских антифашистов, песенка, неизвестно откуда взявшаяся, — читала я где эти слова или слышала, не помню, просто знаю ее и будто всегда знала, сколько живу, — эта песенка не позволяла мне сомневаться. Пелась она негромко, задумчиво. И в середине каждой строфы была пауза. Она словно давала время подумать самой: а что же будет дальше? И каждая строфа такая короткая, а словно отдельная история.