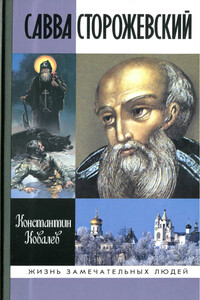Делакруа | страница 7
Рисунки, которыми Эжен покрывал страницы своих черновых тетрадей, сильно отличались от тех, что он выполнял на уроках рисования под руководством лауреата Римской премии г-на Буйона. Они представляли собой реализованный жест. Это были торопливые кроки, росчерки, напоминавшие росчерки Пушкина на полях его рукописей. Это было чувство, которому сопутствовал жест. Если бы Эжен оказался на сцене, он бы выразил свое чувство гораздо размашистей, но он сидел в классе, за партой, он слушал монотонное латинское пение — преподаватели не говорили, а пели, — и надо было смирно сидеть.
Его энергия нуждалась в исходе. Он пробовал. Он играл на скрипке — он мечтал стать музыкантом. Он сочинял стихи — он мечтал о поэзии.
В 1813 году пятнадцатилетний Эжен подарил одному из своих однокашников, некоему Леону Блонделю, альбом с собственноручно разрисованным фронтисписом и стихами на первой странице:
Тропа, которую ты избрал, более трудна и сурова...
Эжен имеет в виду намерение Блонделя всерьез заняться наукой. Сам он предпочитает карьеру артиста, и он надеется остаться таким же простым и естественным и не удаляться от природы. О суровое и жеманное время, о Руссо!
Но кем стать? Поэтом, музыкантом, художником? Он не выбрал еще окончательно, но он не станет тратить времени зря, как никогда не тратил его Бонапарт.
К огромным коллекциям Лувра присоединены теперь были трофеи, вывезенные из покоренных французами стран. В Лувре эти трофеи составили особый раздел, названный Музеем Наполеона. Музей прекратил свое существование вместе с империей — картины, эстампы и статуи снова растеклись по Европе. Но кому посчастливилось, тот смог любоваться известное время прекрасной коллекцией: раздел живописи ошеломлял своим изобилием. Одних вещей Тициана было двадцать четыре, Рембрандта — тридцать одна, а Рубенса — более пятидесяти.
Гольбейн, Дюрер, Кранах, Веронезе и Мурильо, Рафаэль и Корреджо, Веласкес и Андреа дель Сарто... Но Рубенс все же преобладал, заглушал остальных своим фанфарным звучанием.
Рубенс был элегантным и мощным, бесстыдным и сдержанным, аристократичным и чувственным, неискоренимо мужицким и величавым, как царь. В нем было неукротимое, но точное красноречие, столь близкое латинскому пылу, галльской склонности к округлым отработанным фразам, галльскому высокопарному жесту. Живопись Рубенса воодушевляла, как воодушевляет горный пейзаж или сверкание меди в оркестре. Разнообразным он не был, отнюдь — он покорял уверенным однообразием, невозмутимостью своего блеска, темпераментом, равномерным, как ветер, постоянно наполняющий парус.