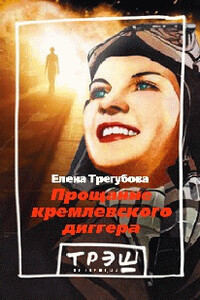Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 | страница 17
— Ага! А двадцать градусов — не хочешь, Крутаков?! А бутерброд — ну, скажем, с сыром и жареными грибами! Ну ладно, так и быть — не бутерброд — а пицца! Короче: солнце пропекает как пиццу! — дразнилась она, бродя босой ладонью в махровых снегах. — Всё вокруг сияет и цветет!
— Ах ты уже там и пиццу попррробовала, за-а-аррраза! — хохотал над ней Крутаков. — Нет, вы посмотрррите, как эта постящаяся вегетарррианка ха-а-арррашо пррристррроилась! Двадцать грррадусов — это ты загнула! Голову даю! Загнула!
Загнула, но не градусы, а длинные махровые тычинки: она скакала теперь по ступенькам на коне по пояс в спелых пшеничных полях, и при этом рука становилась идеальным кентавром — щедро выделявшим из себя и строптивую лошадь и отчаянного седока.
— Ну ладно, ладно — на солнце — точно двадцать!
— Кто же на солнце-то считает! — хохотал Крутаков. — В тени все норррмальные люди меррряют! Жухала!
— Да? А когда пиццу запекают — тоже, по-твоему, у повара под мышкой меряют, а не в духовке?!
— Дурррында. Это ты пррросто пррросыпаешься! Ты пррросто пррроснулась — и поэтому тебе все так ярррко. Пррроснулась. И, ррразумеется, не со мной. Как я и пррредполагал. Шутка. Чесслово. Не швыррряйся только опять трррубками как обычно, а то это уже будет совсем нечестно! Я ведь тебе перррезвонить не смогу. Не на Центррральный же телегррраф мне тебе телефониррровать бежать.
— Сам дурак, — нехотя отбивалась от вечных насмешливых его, на грани фола, шуточек Елена — и, подумав, рассказала даже щедрую надбавку про негров в вокзальном бедламе. (Теперь она уже изображала средним и указательным пальцем косилку. А большим, мизинцем и безымянным продвигала комбайн вперед по крутым лугам).
Смешно, но с температурой к ней с самого приезда в Мюнхен приставали буквально все. Как будто с бесконечной точностью подстраивая, подлаживая под нее пейзаж.
Началось все с того, что Марга, хозяйка дома, пятидесятилетняя пышнотелая красотка с обгорелым носом и бордовыми отрогами щек (только что вернувшаяся с горных лыж — почему-то, из Турции), веселая женщина с очень приятным грудным голосом и столь же обаятельным музыкальным кашлем, однако настолько глубоко и насквозь прокуренная, что как только она раскрывала рот и произносила хоть слово, волна настоявшегося уже где-то, в ее недрах, курева просто сшибала Елену, и заставляла невольно и невежливо отшатываться, а Марга, слегка стесняющаяся своего байкового, смягчавшего все мюнхенского акцента (вместо цуг выдыхала цух, вместо замстаг — самтахх — как будто роняла семена слов в мягкую свежевспаханную баварскую землю; а «церковь» и вовсе рыхло подменяла «кухней» — и когда Елена, абсолютно без тени сомнения уверенная, что для каждого вменяемого человека на цивилизованном, христианском, неопоганенном коммунизмом Западе, куда она наконец-то выбралась, проблемы веры — как и для нее — вопрос жизни и смерти, — и чуть не с порога жадно задала Марге в лоб вопрос, в какой храм она ходит, — Марга испуганно вытаращилась: «А зачем тебе?.. Ну… Хожу… Иногда… Да нет не хожу… Ну да, по праздникам… Но не то чтобы по всем… Ну, так, изредка… Да у нас здесь… Вон, там, на главной улице одна есть… А почему ты спросила?»), волнуясь, что русская гостья может ее не понять, наступала, стараясь придвинуть свое загорелое лицо как можно ближе и непременно говорить уста к устам — так вот первое, о чем Елену спросила пришибавшая бронхиальной гарью марльборо Марга, было: не хочет ли она принять ванну с дороги.