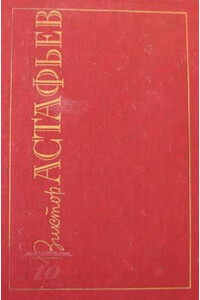Избранное в 2 томах. Том 2 | страница 17
Громкое «ура» было ему ответом. Десятки рук уже подхватили каждого из нас. У дверей, ведущих за кулисы, толпа расступилась, образовав широкий проход. Высоко над толпой, над головами красноармейцев, под нескончаемое «ура» актеры проплыли в театр.
Нас опустили на землю только на сцене. И красноармейцы, которые внесли нас на плечах, остались чрезвычайно довольны: теперь и они были в театре, и уже никакая сила не могла их выбить оттуда. Теперь-то они посмотрят спектакль. Мест в зале не было, и красноармейцы, доставившие нас, расположились тут же, между декорациями, а то и просто на сцене.
Зрительный зал был похож на военный стан, готовый к бою. Красноармейцы, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами, сидели с винтовками в руках. Серые шинели, зеленые стеганки, папахи с красными бантами, фуражки с пятиконечными звездами. Тучи махорочного дыма клубились под потолком. Шум, гам, песни плыли над тысячной толпой, втиснутой в небольшой зал, который был рассчитан самое большее на полтысячи зрителей. Горячее дыхание людей могучим порывом било в занавес, и он надувался, словно парус под ветром. Если бы это был парус, а внизу вода — театр уплыл бы вместе с актерами и зрителями.
Актеры стояли, схватившись за головы. Разве может состояться спектакль? Разве хоть одно слово, произнесенное отсюда со сцены, пробьется туда в зал, сквозь этот шторм?
Зазвенел второй звонок. Погас свет. И в ту же секунду глубокая тишина — глубочайшая, абсолютная тишина воцарилась в зале. Оборвалась песня, смолк шум, не скрипнул ни единый стул, замерло все.
Затаив дыхание, тысячи людей в папахах с бантами, с винтовками в руках, все как один впились жадными глазами в занавес.
За годы империалистической войны и позже, за годы гражданской войны, мне приходилось видеть в театральном зале совершенно различные контингенты зрителей. И каждый контингент совсем по-разному принимает начало спектакля. И как раз в ту секунду, когда в зале гаснет свет, вспыхивает рампа и вот-вот должен подняться занавес, зритель лучше всего раскрывает себя актерам.
Безусые мальчишки в зеленых погонах — бледные от кокаина прапорщики царской армии — впивались в занавес взглядами трагическими и пустыми. В драматических сценах пьесы они весело хохотали, в веселых — размазывали слезы по щекам. Лейтенанты немецкой оккупационной армии сидели тихо и чинно, зажав палаши между коленями, и встречали поднятие занавеса взглядами суровыми и безразличными, словно готовились учинить актерам допрос. Во втором действии, какое бы оно ни было, они начинали клевать носами, однако просыпались сразу, как только вспыхивал в зале свет, и, аккуратно подтягивая амуницию, уходили, даже не взглянув на сцену. Петлюровские гайдамаки, как только после звонка погаснет свет, сразу же начинали свистеть и гикать, в патетических сценах спектакля хлестали нагайками по голенищам или, закладывая два пальца в рот, насмерть пугали актеров разбойничьим свистом. Польские поручики и унтер-офицеры разваливались в креслах, бряцая шпорами и палашами, и на протяжении всего спектакля громко разговаривали, лишь иногда чванливо, как бы оказывая милость, бросали взгляд и на сцену. Деникинская офицерня смотрела мутными и пьяными глазами одинаково безразлично на сцену, как и на гладкую стену.