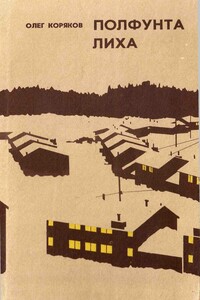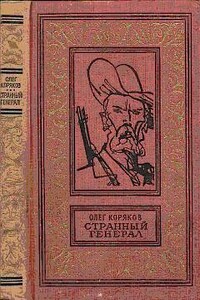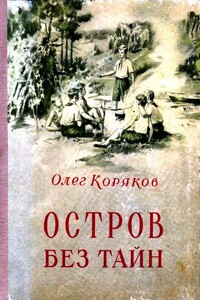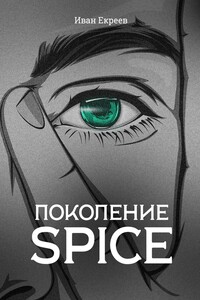Дорога без привалов | страница 56
Когда семья приехала в те места — в город Полевской, — землю Родины опалила война. Отец ушел на фронт и там, под Курском, пал на ратном поле.
Юрий к тому времени, распрощавшись по нужде со школой, начал работать слесарем. Но осенью 1943 года горком комсомола направил его в группе молодежи в школу ФЗО при Северском металлургическом заводе. Его спросили там, кем он хочет стать.
— Слесарем, — ответил паренек.
— А если в сталевары?
— Не, слесарем.
Однако оттого ли, что был он в свои пятнадцать лет уже широкоплеч и мускулист, оттого ли, что наиболее остро завод нуждался в кадрах сталеплавильщиков, направили его учиться все-таки на сталевара.
И вот, уже в сорок четвертом, появился он подручным у мартена. В цехе было жарко и шумно. Гудел и бился в окнах печей яростный огонь.
Юрий сжался и приостановился. Мастер производственного обучения старик Михайлов легонько подтолкнул его к печи:
— Давай-давай…
В том же году шестнадцатилетний Смирнов стал у печи уже бригадиром. Как на фронте — из рядовых во взводные.
Но та увлеченность делом, о которой я говорил, тогда еще не пришла. Просто сработали качества, привитые в семье и школе, дисциплинированность, трудолюбие, активность. Сработала наконец и война: без твоего металла, Юра, нас сомнут! Та большая, захватывающая увлеченность появилась позднее, когда не только формально, но и всей душой слился молодой Смирнов с громадой по имени советский рабочий класс.
2. Чувство хозяина
От старика Михайлова, от мастера Белоусова, от других кадровых металлургов постепенно узнавал он, что это такое — его завод, каков он был прежде и каким стал.
Построенный в 1737 году, а затем переданный «в вечное и потомственное пользование титулярного советника Турчанинова», Северский железоделательный завод славился добротностью своей продукции, помечаемой именным турчаниновским гербом с изображением цапли. Еще он славился баснословными доходами владельцев и великой нуждой работных людей. Не случайно бунты и восстания, красный петух да посвист пуль извечно были знакомы этим местам. Не случайно одна из гор на окраине города, откуда начались сказы «Малахитовой шкатулки», и по сию пору носит название Думной: говорят, будто сам Емельян Пугачев, сидя на ее вершине, думал думу о судьбе народной. Можно поверить и академику Петру Палласу, который писал, что так «гора названа по причине бывшего на оной сходбища для соглашения между собой взбунтовавшихся работников».
Старожилы завода вспоминали старинную рабочую песню: