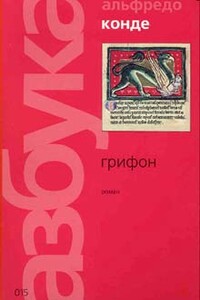Синий кобальт: Возможная история жизни маркиза Саргаделоса | страница 20
Аромат имен проник сквозь маленькое окно комнаты, заполнив собой печальный день великого промышленника, против которого поднял мятеж целый мир людей, разрушая все на своем пути. Тепло хлева, горячий запах навоза, мягкого скотного ложа прилипли к телу, чтобы окончательно разбередить его память. Ему было поручено пасти коров: Безрожку, у которой не было одного рога, Серушку, серо-бурой масти, Баранку, с круто загнутыми внутрь рогами, Краснушку, ярко-рыжего цвета, Буравку, у которой один рог смотрел вверх, а другой вниз; Буренку, Пеструшку, Красавку, Крапинку, а также Белянку и еще Чернушку, Желтушку, Шельму и Наваррку. Все они давали молоко и возили телегу, а время от времени приносили телят, получавших клички, которые Антонио начал перебирать в памяти, словно зерна ностальгических четок, звенья цепи, навсегда сделавшей его пленником детства. О, это семейное хозяйство, как не похоже оно на его теперешнее, совсем недавно разгромленное!
Верхний источник, расположенный в полутора сотнях метров от дома, снабжал жилище водой; к нему можно было пройти по проселочной дороге. Там можно было встретить других мальчишек из окрестностей, которые всегда смотрели на него выжидательно: его отец был идальго, что, впрочем, никого не удивляло; еще он когда-то учился, что также не было чем-то из ряда вон выходящим, ибо читать и писать во второй половине того века умели практически все обитатели Оскоса; но его отец был штатным писарем в Санталье, чем-то вроде секретаря муниципалитета, наделенного к тому же функциями нотариуса и исполнителя судебной власти, он некогда дружил с монахом-бенедиктинцем[9], прославившим Овьедо, да плюс к этому продолжал штурмовать высоты книжных знаний и имел вид настоящего сеньора, каковым он уже, по существу, не являлся; а их отцы, тоже идальго, трудились в кузнице, возделывали землю или занимались хозяйством, деля работу с женами. Отец же Антонио этого не делал; он предпочитал взвалить это на плечи Антонии Каетаны.
— Дон Антонио, уже давно пора обедать! — вновь напомнили ему со двора. Сколько же времени провел он здесь, взаперти? Он даже не пошевелился и продолжал сидеть, как прежде.
Антонио Ибаньес поднялся, намереваясь повернуть портрет лицом к стене, словно собственный взгляд начал беспокоить его, хотя он и не отдавал себе в этом отчета; им двигала усталость от многочасового непрестанного созерцания самого себя. Следовало ли ему остаться в Саргаделосе? Погружение в воспоминания оказалось столь же болезненным, как и бесполезным, и он был убежден, что это ему совершенно ни к чему, поскольку жизнь должна течь по своему руслу, далекая от чувств, которые могло породить в душах ее течение.