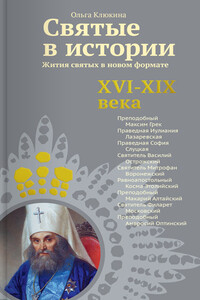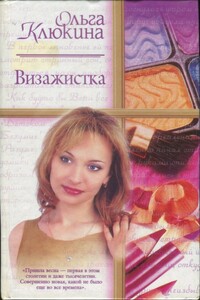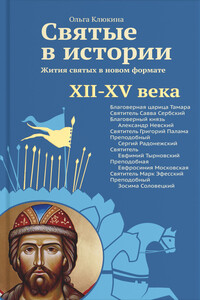Святые в истории. Жития святых в новом формате, IV–VII века | страница 38
В Афинах Василий изучал философию, геометрию, риторику, астрономию, а вот его земляк из Каппадокии и близкий друг, Григорий Назианзин, был больше увлечен поэзией и богословием. В историю Церкви он войдет с именем Григорий Богослов.
В Афинах у друзей-каппадокийцев был широкий круг общения, они даже познакомились с Юлианом, племянником Константина Великого. Со своими наставниками Юлиан бывал на христианских богослужениях, хотя многие знали, что втайне он посещал языческие капища и гадал о своей судьбе по внутренностям убитых животных.
В 350 году, воюя с самозванцем Магнецием, был убит император Констант, и на последующие двенадцать лет единственным правителем империи стал Констанций – средний и, как говорили, любимый сын Константина Великого.
Всех своих детей Константин воспитывал в христианских традициях, но так получилось, что средний из его сыновей благоволил арианам. В детские годы наставником Констанция при дворе был Евсевий, епископ Никомедийский – убежденный арианин, один из главных противников Никейского Символа веры, который, впрочем, впоследствии покаялся.
Историк Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» приводит и такой любопытный эпизод: отцовское завещание Констанцию передал в руки некий арианский священник, который «скоро сделался человеком к нему близким и получил приказание бывать у него как можно чаще». Судя по всему, не названный по имени арианин оказал Констанцию очень важную услугу, учитывая, сколько крови пролилось при распределении отцовской власти.
И потому неудивительно, что именно в период царствования императора Констанция вся империя, и особенно ее восточные провинции, с новой силой погрузилась в арианскую смуту и мрак церковных расколов.
В истории Церкви IV век называют временем так называемых тринитарных, или триадологических, споров, в которых решалось православное исповедование Троицы.
Привычное для нас понимание Троицы: Бог Отец, Бог Сын Христос и Бог Дух Святой – должно было пройти, как пишет историк А. В. Карташев, долгий и мучительный период «чревоношения православной троической доктрины».
Каждый из участников развернувшейся дискуссии «искренне верил в свою истину, хотел эту истину сделать и нормой христианской империи», – уточняет современный богослов протопресвитер Александр Шмеман.
И это был не просто богословский спор ученых мужей – в IV веке в него в той или иной степени были вовлечены все христиане. Один автор того времени жаловался, что в Константинополе невозможно даже подстричься без того, чтобы вся парикмахерская не пустилась в возбужденную дискуссию о природе Христа.