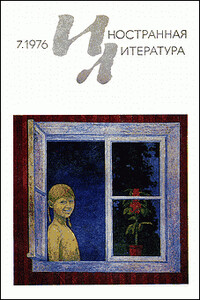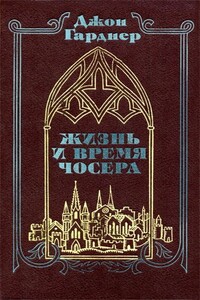Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы | страница 23
— Ты уж извини меня, Уиллард, — сказал Генри, когда тот уходил во втором часу ночи.
Уиллард улыбнулся, вскинув голову и глядя куда-то через плечо Генри.
— Пустяки, — сказал он. — Наверное, эта затея — просто муть.
— Этого я не говорил, — серьезно сказал Генри.
— Не говорил. Да ладно, видно будет. — Он подмигнул, одернул футболку и вышел.
А позже Генри лежал в постели и слово за слово перебирал их разговор. Он не сомневался, что прав, хотя, рассматривая картинки в журналах, не всегда находил то сходство, о котором толковал Уилларду. Вопрос только — действительно ли это важно, надо ли это учитывать при постройке автомобиля. Так он лежал и думал, а может быть, грезил, и в его воображении внезапно возник дом Джорджа Лумиса. Ему стало страшно. Мрачный, старый кирпичный дом среди лиственниц; в сводчатых окнах всегда темно, только призрачно мерцает телевизор на кухне. В доме, наверное, комнат пятнадцать или шестнадцать, но Джордж Лумис пользуется тремя-четырьмя, а в остальные и не заглядывает. Но может, здесь не то, подумал он. Ведь Джордж не сам построил дом, ему такой достался. Если бы у него была возможность выбора, то уж конечно… Но он тут же понял, что не прав. Человек влияет на окружающий мир, но ведь мир на него тоже влияет. Так и с домом. Если что-то или кто-то стоит особняком, так это именно Джордж Лумис.
Он долго лежал, глядя в потолок; он думал.
Спустя две ночи снова пришел Уиллард. Пришел он после десяти, когда Кэлли и Генри делали в закусочной уборку.
— Как дела, парень? — спросил Генри, подавая ему кофе и его любимый пирог с черникой.
Уиллард маленькими глоточками пил кофе, поглядывая поверх чашки на Кэлли, потом ответил:
— Плохо. Но теперь хотя бы есть причина. Я усек, что ты имел в виду.
Генри нахмурился, он не сразу его понял.
— Машины и люди, — пояснил Уиллард. — Ну, то, о чем ты говорил. Обалдеть!
Один миг, и давно знакомое волнение заколотилось в Генри, и никакими силами он не мог его обуздать. Он сдерживал себя, он яростно с собой сражался, словно лев, проникшийся вдруг сочувствием к отданным ему на растерзание христианам, но, сдерживая мысли, он не мог обуздать тело, оно рвалось к Уилларду. Неуклюжий от волнения, он толкнул чашку и расплескал его кофе, но не стал отвлекаться, чтобы вытереть стол, он говорил Уилларду — сперва вымученными, медленными фразами, а потом все быстрей и быстрей — о той искорке, которая заложена в нем, в Уилларде, и которую он должен сберечь и раздуть, — об искорке таланта. В его словах практически не заключалось смысла, Генри это знал, говоря их, но в жаре его красноречия, достигавшем чуть ли не религиозного накала, в жаре, с каким он говорил и лупил ручищами по стойке, должен был выплавиться хоть какой-то смысл. Уиллард Фройнд наклонился к нему, кося глазами, словно стараясь заглянуть в его мысли, но он как-то не так наклонился — или это просто показалось Генри, — в его позе чувствовалось что-то притворное или полупритворное, во всяком случае нарочитое. Кэлли тоже с встревоженным видом подошла поближе. Ее губы были плотно, напряженно сжаты. Но Генри смотрел сейчас только на Уилларда.