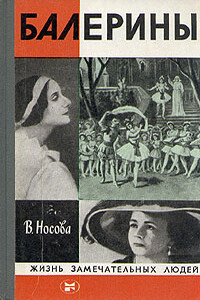Комиссаржевская | страница 11
По вторникам, вечером, в свободные от спектаклей часы в этом кабинете сходились друзья Федора Петровича. Надя любила всех одинаково серьезно; у Веры были избранники, хотя и у них она замечала что-нибудь особенное и всегда немножко смешное. У Анатолия Федоровича Кони, по ее замечанию, усы росли по углам подбородка. Седая голова старого педагога, детского писателя Михаила Борисовича Чистякова не останавливала Веру: смешно поправляя за ушами воображаемые очки, она важно обшаривала воображаемые карманы, вытаскивала из них воображаемый детский журнал и наставительно обращалась к Наде:
— Вот какие книжечки, сударыня, вам надо читать, да, вот эти, а не те, что вы вытаскиваете из папашиного шкафа!
Иван Федорович Горбунов, артист громадного роста, трогательно любивший детей и особенно миниатюрную Верочку, не избежал участи всех гостей. Вера быстро усвоила его манеру рассказывать смешное, и даже сам Горбунов не сразу иногда мог понять, шутит с ним его маленькая любимица или говорит серьезно. И только лукавые искорки в глазах, как рассыпавшиеся алмазы, выдавали Веру. Горбунов сердито грозил ей пальцем, ласково приговаривая при этом:
— Но талантливо надула, не обижаюсь!
Из многочисленных друзей дома одинаково обе девочки любили Мусоргского. Блестящий офицер Преображенского полка, Модест Петрович вышел в отставку, чтобы посвятить себя музыке.
Невысокий, рано начавший полнеть, он поражал всех и привлекал своими умными, чаще заразительно веселыми, чем грустными, голубыми глазами. В представлении Веры и Нади он был тоже артист — значит, как все они, остроумный, веселый, добрый гость. Девочки видели, что отец встречал Модеста Петровича с особенной радостью, всегда ласково и приветливо, как бы ни был занят. И общая симпатия сестер переросла в искреннюю любовь к композитору.
Едва заслышав в передней его веселый голос, Вера и Надя бросались к дверям с криком:
— Это он, это он!
В огромной шубе с бобровым воротником, запорошенный снегом, Мусоргский напоминал им Деда Мороза. И действительно, в бездонных карманах его шубы всегда оказывалось что-нибудь необыкновенное: то глиняная свистулька, ярко расписанная и похожая звуком на рожок пастуха, то склеенная из цветной бумаги, сложенная гармошкой шляпа, незаменимая в домашнем спектакле, а иногда и букетики анемон — «Дульцинеям моего сердца», по-рыцарски раскланявшись, говорил композитор.
Девочки мешают ему раздеваться, хватают шапку, примеряя ее на себе, и, перебивая друг друга, спрашивают: