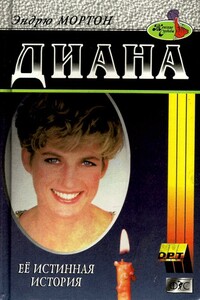Забытая сказка | страница 37
Я прекратила посещение консерватории и рассталась со скрипкой, рассталась с ней, голубушкой, без всякого сожаления, имела длинный разговор со своим профессором и директором, а еще длиннее с Николаем Николаевичем.
— Да ведь тебе же осталось окончить консерваторию только еще один год на звание «свободного художника», а ты… — говорил Николай Николаевич с таким возмущением и горячностью, как никогда.
Он окончательно был поражен, потрясен, когда я ему сказала о своей нелюбви, граничащей чуть не с ненавистью к скрипке и молчаливой борьбе с самой собой все десять лет.
— Господи! — воскликнул Николай Николаевич, — Что же это такое? Да и кому же это надо? Упражнение в силе воли или чудовищная скрытность? Гордость? Неискренность?
Николай Николаевич смотрел на меня, как будто первый раз меня видел, и я совсем не та, которую он знал. Его последние слова меня задели, и мне стало больно, вдруг он меня не поймет.
— Нет, — сказала я, — Вы меня не так поняли.
Я постаралась объяснить Николаю Николаевичу, что главным двигателем были в этом случае обожание, любовь к отцу, и стремление сделать все приятное, желательное ему, во что бы то ни стало. Его обаяние, его воля всегда гипнотизировали меня и буквально пресекали мое бунтарство. Я внутренне застывала при мысли, что мои протесты, мое неудовольствие не только огорчат, а больше — ранят, и самое страшное — отделят, разочаруют его во мне. О, как это было подчас мучительно, и как с новой силой и энергией я превозмогала непосильное, чтобы видеть счастливое и довольное лицо отца после каждого концерта.
— А сейчас его нет, и ему это более не надо. Сейчас мой выбор, моя воля, я выбираю самое ценное в жизни — свободу.
Николай Николаевич задумался и долго молчал.
— Как же это я проглядел? Да и ты мне никогда ничего… Даже намека не сделала, — помолчав немного, уже своим добродушно-шутливым тоном добавил. — Со сковородкой разодолжила, с болезнью перед поездкой в Алупку загадку задала, а сейчас, скажу тебе откровенно, такое, что и название не придумать.
Я не дала ему кончить и со словами: «я рада, что Вы поняли меня, больше мне ничего не нужно», охватив его голову, крепко поцеловала, но глаза и лоб не посмела. Я помнила, что он мужчина.
Горе матери разве я могла с кем-нибудь из нас сравнивать? Она не плакала, не жаловалась, как-то застыла. Ведь ей тогда было только тридцать восемь лет. Скоропостижность происшедшего ошеломила всех нас. Мы приходили в себя, вернее, прилаживались, приспосабливались к совершенно новому укладу жизни без отца.