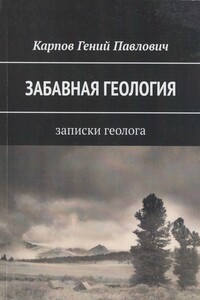Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я | страница 53
Манеры, полные утонченного достоинства и неподдельной простоты; добрая улыбка, в которой выражалась неизъяснимая душевная теплота; густой грудной баритон, обладавший какою-то особенной убедительностью; наконец, детский, иногда неудержимый смех с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами – смех человека с чистою совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенною свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья. Все это дорисовывало своеобразный облик, обладавший редкою силою симпатичности.
Это было одно из тех лиц, перед которым можно высказываться только откровенно, а светская условная ложь кажется грехом. Даже как-то неловко было бы дать ему неполный или уклончивый ответ на тот или иной вопрос или, не согласившись с ним, не выяснить тут же принципиальной причины такого несогласия.
Особенно сильное впечатление производил он на детей и простолюдинов, то есть именно на тех, чья совесть наименее разъедена ржавчиною всяческой лжи; они чувствовали праведность этой души и тянулись к ней, как к свету. Сколько мне приходилось видеть простолюдинов, знавших Владимира Сергеевича, – все к нему относились как к лицу с какими-то особыми духовными полномочиями свыше.
…Какое-то мистическое доверие внушал Владимир Сергеевич даже животным. Мне случалось раза два присутствовать при водворении его с вокзала в номер гостиницы: едва успеет он приехать и потребовать себе стакан кофе, как уже в оконные стекла бьются десятки голубей. Положим, он любил кормить их размоченною булкою; но каким образом птицы узнавали о приезде Владимира Сергеевича, прежде чем он приступал к их кормлению, – это уже их тайна. Та же история повторялась с окнами моей квартиры, когда там поселялся Соловьев.
…По выражению одной моей служанки, с переездом Владимира Сергеевича в дом „нисходило благословение“: всем становилось как-то легче на душе, житейские огорчения и дрязги казались ничтожными, мысль сама собою настраивалась более высоко, и всем работалось спорее. В доме, конечно, становилось тише, потому что все домочадцы сознавали необходимость дать гостю покой и возможность заниматься.
А работоспособность его была прямо изумительна. Он мог просидеть 6–7 часов подряд, не отрываясь от письменного стола, затем заснуть часа на два и проснуться самостоятельно часа в три утра, чтобы опять сесть за работу до полудня.
…У его трудовой энергии была какая-то особенная заразительность: все, начиная со взрослых и кончая детьми, охотнее и легче выполняли свои задачи, зная, что в соседней комнате работает Соловьев. И как весело бывало, когда сходились после этого с ним за завтраком или за ужином! Сознание, что он успел много сделать за несколько часов, разжигало в нем шутливость и добродушный юмор: он сыпал экспромтами, вспоминал смешные эпизоды из своей жизни и переходил к неудержимому хохоту.