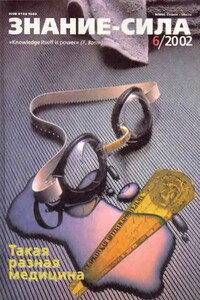Знание-сила, 2001 № 11 (893) | страница 37
Так, говорят о «смерти субъекта», что, конечно, означает и «смерть объекта»; говорят о ненужности и непродуктивности теорий научной рациональности, теряется интерес к истине и ее критериям, к природе человеческого познания. Философия без идей «рациональности», «истины», «объективности», без субъекта, без универсалий.
– Ну, уж это положительно интересно, – сказал бы Воланд, – что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
А ведь еще не так давно всс это было, и не только было, но волновало лучшие мировые умы, и тогда сомнения в том, что это есть, воспринимались скорее как капризная игривость интеллекта, как забавные, но недостойные серьезного интеллектуального усилия выходки».
Союз географов и философов, подобия которому, по-видимому, нет в других странах, складывался в 60- 70-е годы именно в такой атмосфере, в атмосфере исключительного интереса к методологическим проблемам науки, и не случайно, что в установлении контактов с философами огромную роль сыграли публикации в журнале «Природа», например, статьи Н-Ф. Овчинникова, А.Е. Левина, М.К. Петрова. Мы не должны забывать, что это было время исключительно интенсивных и плодотворных исканий в области философии науки (методологии науки, как ее тогда называли), время проведения многочисленных широких совещаний и конференций, а также более элитарных семинаров и школ, время выхода многих прекрасных книг и статей, из которых отметим только книгу И.А. Акчурина и статью М.А. Розова.
У географов были и мощные внутренние импульсы к поискам интеллектуальных контактов с методологами науки. География переживала драматический и плодотворный кризис, период разочарования в описательных методах и поисков достойной альтернативы им% попыток реконструировать и переосмыслить географию как фундаментальную науку. Это было время количественной и теоретической революций, начало которым в нашем отечестве было положено усилиями Л.И. Василевского, В.М. Гохмана, Ю.Г. Липеца, И.М. Маергойза и Ю.В. Медведкова, создавших семинар по новым методам исследований в экономической географии в Московском филиале ГО СССР в 1962 году, и переводом на русский язык широко известной книги В. Бунге «Теоретическая география» пятью годами позже.
Сходные процессы протекали и в смежных науках, в частности, в региональной экономике и социологии, причем в англосаксонских странах они начались существенно раньше, чем у нас. «Революционная ситуация», сложившаяся в географии в тот период, глубокая неудовлетворенность гео!рафов полученными ими по наследству представлениями и методами исследовательской работы, а прежде всего – достижениями своей науки, буквально толкала их в объятия методологов науки, подобно тому как толкает жизнь в объятия психоаналитика человека, переживающего драматический разлад с самим собой.