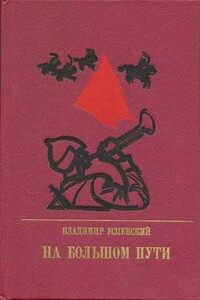Пасторский сюртук | страница 53
Дюбуа плакал. По розовым пластам пудры на его лице бежали слезы. Они не имели отношения к печали, потому что лицо по-прежнему было спокойно. Философ-столпник, он давно нашел приют на столпе смирения. Горевал ли он, был ли взволнован, охвачен отчаянием? Нет. Дюбуа был спокоен. Смотрел на Германа Андерца, и взгляд его был спокоен. Нежданно-негаданно в его существе разверзлись два источника. А он и не знал.
Неподвижные, уставившиеся в пространство, чопорные сидят они — точь-в-точь фигуры, нарисованные на стекле. Шевалье спрятал руки под мышками. Глаза блестят чернотой на белом как бумага лице. Эрмелинда прижала ладонь к горлу, подавляя крик.
Отчего свечи не светят? В зале чуть не сотня канделябров, и постоянно входят все новые лакеи с целым лесом зажженных свечей, черно-золотые лакеи, совершенно одинаковые, беззвучно скользящие на мягких подошвах, танцующие торжественный зеркальный танец с бесконечными фигурами. Но отчего свечи не светят? Поверху каждой восковой пирамиды — овальная драгоценность, пульсирует, дышит, трепещет от сквозняка из окна. Но света не дает. В зале все так же темно. И эти лица вокруг стола, лоснящиеся, грязно-белые во мраке.
Но что это? Преждевременный восход солнца? Нет. Солнце тут ни при чем. Желтый свет поднимается в окнах, как мутная желтая жидкость в стакане. Не свет. Не восход. Лица. Высокие окна медленно наполняются лицами, вопрошающими, прислушивающимися, безмолвными, желто-белыми лицами, которые громоздятся друг на друга, точно ячейки сот. В этих лицах нет угрозы. Они слушают терпеливо, ждут без спешки, быть может, важного решения. Как молчаливая толпа народа перед зданием королевского совета.
Эрмелинда медленно стряхивает оцепенение. Движения ее еще неуверенны и скованны, улыбка обращена внутрь себя, она улыбается как бы забавной потусторонней грезе. Взгляд застывший, как у статуи. Рука двигается над скатертью, словно ищет что-то. Парит над серебряными кастрюльками и блюдами с остывшей, несъедобной уже снедью, ищет, медлит, наконец замирает у вазы с фруктами. Трогает роскошные, тяжелые плоды, то бархатистые, то гладкие, с восковым блеском. Ладонь смыкается вокруг смоквы. А Эрмелинда поворачивается к Герману и с все тою же улыбкой протягивает к нему руку, словно желая передать плод через снежное поле скатерти.
Бенекендорф смотрит на нее. Он очень бледен — верно, скоро умрет, н-да, этот человек вряд ли долго протянет. Его рука лежит на столе, а в ней — скомканный носовой платок, влажный от его дыхания, как снежный ком. Под натянутой кожей видно каждую кость черепа. Лоб белый, шишковатый. Бенекендорф тоже молчит, ждет.