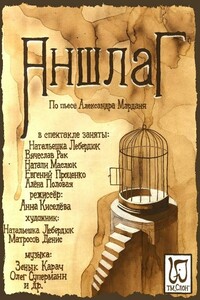Ямщик, не гони лошадей | страница 15
Мы гуляли втроем в тот вечер — она, я и Маркс.
Она рассказала всю свою жизнь, я — свою, и, не понимая друг друга, мы слушали, раскрыв рты. У любви свой язык. Его выучиваешь сразу и без акцента. Но говорить на нем можешь с немногими, может, с одним…
И мы болтали на этом языке всю ночь…
А наутро она завалила экзамен. По марксизму-ленинизму.
Она предпочла Питера — Марксу. Я встречал ее возле чахлого деревца, которое росло напротив ее института. Мы обнялись на виду у всего мира и пошли праздновать ее провал. Мы сидели в каком-то сквере и с аппетитом уплетали горбушку. Ты любишь горбушку, ДЖИНН?
ДЖИНН. Я как-то не задумывалась.
ПИТЕР. А зря! Это лучшее в мире лакомство! РОЛАН, дай мне хлеб, соль и горчицу — и я вам приготовлю русское фирменное блюдо сорок седьмого года (РОЛАН подал хлеб). Нет, я тебя просил черного. И почерствее. Хлеб тогда был грубый, черствый, тяжелый. У тебя есть такой хлеб?
РОЛАН. Вот все, что есть.
ПИТЕР. Не ахти. Но за неимением настоящих продуктов, будем делать блюдо из этих. Берем хлеб, обрезаем краешек, и получается горбушка. Затем мажем густо горчицей и посыпаем солью. Не жалея, вот так. Прошу вас, фирменное блюдо готово!
ПИТЕР протянул. ДЖИНН откусила и поперхнулась.
ПИТЕР. Тебе не нравится?
ДЖИНН. Кто сказал? Это что-то удивительное (вновь поперхнулась).
РОЛАН.(морщась) Какое это к черту лакомство — отрава!
ПИТЕР. Чтобы это стало лакомством — надо было немного поголодать (он с аппетитом сжевал горбушку). М-мм! Вот так мы ее ели. А потом пошли в магазин для иностранцев — был такой, и накупили все, что там было. Это не так много — шпроты, селедку и шоколад. И все это ели руками, вперемежку, на глазах у прохожих. Они останавливались и глазели на нас. И вдруг Света перестала есть. Ком застрял у нее в горле. «Все это, — сказала она, — они не ели много лет».
Три недели мы шлялись день и ночь. И я решил увезти ее. К себе, в наши Альпы, в Оберленд, о котором она ничего не слышала.
Она была готова поехать со мной на край света. Никого у нее не было, никого. Все родственники погибли — кто на фронте, кто в блокаду. Три года девочкой жила она под бомбами.
Мы болтались по каналам и думали о нашей будущей жизни.
Я говорил на моем страшном французском. Она просила меня по-немецки не говорить. И я учил ее французскому. От ее произношения мы оба валились от хохота.
Я смеялся, я пел романсы, я ходил в ее огромную коммунальную квартиру, темную, захламленную корытами, ведрами и велосипедами, и ел там картошку с капустой.