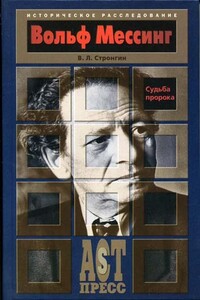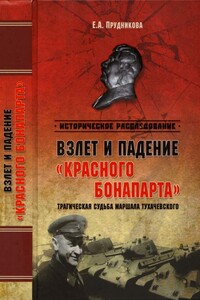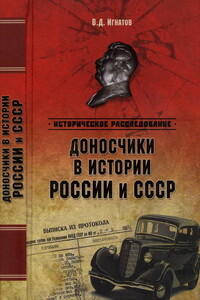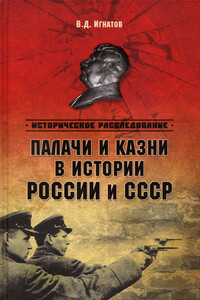Загадки советской литературы от Сталина до Брежнева | страница 31
Противоречивость и двойственность духовно-нравственных влияний, испытанных Фединым в родительской семье, безусловно, отразилась на его психологическом складе, а впоследствии в каких-то многих и дальних преобразованиях и в творчестве. Взаимодействовали и противоборствовали два начала — «отцовское» и «материнское». Видоизменяясь с ходом десятилетий, меняя облик под стать требованиям времени, преобразуясь до внешней неузнаваемости, они все-таки оставались в какой-то мере скрытными первотолчками и важными двигательными импульсами.
Отец учил сына жить, сообразуясь с рассудком, повинуясь его голосу, то, что он называл — по «справедливому принципу». Мать учила жить сердцем.
«Детство моего отца и детство моей матери — два совершенно противоположных и противоречивых начала, — писал Федин, — по всей жизненной окраске, по тону и музыке быта. Противоположности взрастили разных людей. Разные люди сошлись да так и прожили вместе — в разноречии — всю жизнь». Добрая, безответная, кроткая, невольно размягчающая нерв жалости — мать.
И жизненно напористый, жесткий, пунктуальный, привыкший быть всему досмотрщиком и главой — отец.
Когда у Анны Павловны выпадала возможность взять в руки книгу, то обычно это был томик Лескова. Люди редкого бескорыстия, праведники, истинные богатыри и поэты духа из народной среды, которых чудодейственно рождала российская действительность, были ее любимыми героями, предметами ее увлечений — «очарованные странники», «левши», «запечатленные ангелы».
Многое из привитого в детстве идеализма, впоследствии подхваченное и развитое другими жизненными ветрами и потоками, глубоко отложилось в душе писателя, обостряло его внутреннее зрение. Снисходительность к человеческим слабостям, духовная целеустремленность, верность своему долгу, доходящая до стоицизма, — все это оттуда.
Конечно, никто не сводит происхождение каких-либо мотивов в последующих книгах Федина к одним только детским и отроческим восприятиям. Это понятно. И все же, когда в 20-е годы мы будем читать выстраданные и повторяющиеся самопризнания писателя о присущем его художественным чувствованиям «нерве жалости», о его отзывчивости на «кляч» в противовес красивым и сильным «рысакам», то нелишне вспомнить о далеких первоистоках. И когда среди многих персонажей полотен Федина будут попадаться вдруг варьирующиеся и тем не менее родственные фигуры почти святых подвижников культуры (типа «окопного профессора» из романа «Города и годы», ученого Арсения Арсеньевича Баха из романа «Братья» или книжника Драгомилова из романа «Необыкновенное лето»), которых заурядное окружение, как это случалось с иными героями Лескова и Достоевского, охотней всего зачисляло бы в разряд «юродивых» и «идиотов», то и тут нелишне сделать засечку, откуда это началось…