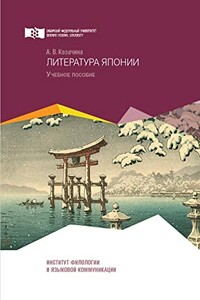Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова | страница 33
На представление о «мастере» выводила и теория «социального заказа», лицемерно или простодушно маскировавшего практику партийно-государственного заказа: «Предоставив рабочему классу роль „социального заказчика“ и вдохновителя – они оставляют за собой скромную роль „мастеров“ художественного ремесла, хранителей творческих приемов искусства, делателей „идеологических“ вещей, хотя такое противопоставление подрывает в корне доброкачественность их притязаний»[26].
Отсюда – отчужденно-уважительное (до поры до времени) отношение к старым владельцам мастерства – чужакам, у которых не вполне понятно как отнять их умение, прежде чем решить их дальнейшую судьбу. Отсюда – настойчиво повторяемый вопрос Сталина в телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме: «Ведь он мастер? Мастер?» – допытывался вождь у поэта, словно советуясь с ним – удушить ли Мандельштама сейчас же или дать ему еще немного подышать воздухом советской страны. Мог ли какой-то оттенок – защитительный, например – этого словоупотребления войти в состав булгаковского имени «мастер»? Вполне мог: давая своему герою это имя, Булгаков делал заявку на охранную грамоту для него, тем самым – и для себя. Все остальные оттенки этого слова принадлежали скорее деятелям МАССОЛИТА, что бы ни скрывалось под этой аббревиатурой – РАПП ли, Союз ли советских писателей или иные деперсонифицированные гурт, гурьба или стадо.
В то самое время, когда Булгаков обдумывал соотношение своего героя и своих антигероев, концептуальную оппозицию «мастер – МАССОЛИТ» (где важно всё – от начальной рифмы до графики), один из журналов нарисовал литературную ситуацию, удивительно похожую на ту, которая позже появится в «Мастере и Маргарите», – в виде развернутой метафоры «наша литературная мастерская»:
«Бесцеремонная кружковщина; самая бесстыдная реклама и самореклама, спекуляция на близости к массам, в нужный момент ловко меняемой близостью „к верхам“, игра лозунгами, пошлая и недобросовестная шумиха „деловитых“ и „смышленых“ людей, пожелавших именно литературу сделать ареной своей поучительной деятельности, – все это шумно и нагло врывается в нашу литературную мастерскую, отрывает людей от работы, суетливо разбрасывает инструменты, толкается, горланит, громко поет „Верую“ и „Отче наш“, исподтишка распределяя зуботычины, провозглашает божков и низвергает их за „несоответствие“ – господствует над литературой и об одеждах ее мечет жребий <…> Гегемония над литературой, подобная вышеописанной, вызывает среди литераторов две противоположные тенденции: одна их часть с расчетом или по малодушию стремится вступить в кортеж триумфаторов, чтобы разделить предвкушаемое торжество или хоть погреть руки у костра победителей. Другая попросту разбредается по домам, отмахиваясь от вершителей литературного дня, как от надоедливой мухи…»