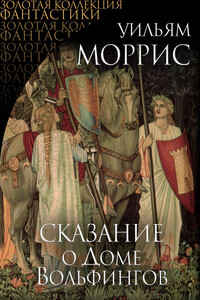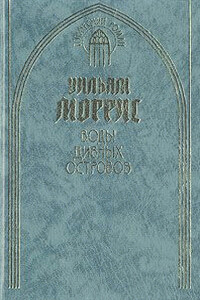Искусство и жизнь | страница 36
Но предвидение революции, созревающей в нашем ненавистном современном обществе, помешало мне, большему счастливцу в сравнении с другими художниками, стать, с одной стороны, просто хулителем «прогресса», а с другой — не позволило попусту растрачивать время и энергию на какие-либо бесчисленные проекты, с помощью которых мнимохудожественные натуры из средних классов надеются развивать искусство в условиях, когда оно вовсе лишилось корней. Так я стал социалистом.
Еще несколько слов. Возможно, кое-кто из наших друзей спросит, а какое мы имеем отношение к истории и искусству? Мы хотим с помощью социал-демократических преобразований добиться благопристойной жизни, — мы хотим как-то жить, и жить теперь же. Разумеется, кто считает проблему искусства и образования более важной в сравнении с проблемой желудка (а некоторые придерживаются именно такого мнения), тот не понимает существа искусств, не понимает, что искусство должно уходить своими корнями в почву безмятежной процветающей жизни. Но все-таки нужно помнить, что цивилизация обрекла труженика на такое жалкое и худосочное существование, что он едва может представить себе жизнь лучшую, чем та, которую он вынужден теперь вести. Искусство должно нарисовать для него правдивый идеал полнокровной и разумной жизни, жизни, в которой восприятие и создание красоты — иными словами, подлинные наслаждения и радость — будут для человека такой же потребностью, как и хлеб насущный. И ни один человек, ни одна группа людей не могут быть лишены этих радостей иначе, как путем насилия, против которого необходимо всеми силами бороться.
Цели искусства
Раздумывая о целях искусства, иными словами, решая вопрос, почему люди любят искусство, усердно стараясь развивать его, я вынужден обратиться к опыту единственного представителя человечества, о котором я кое-что знаю, а именно к самому себе. Когда я размышляю о том, к чему стремлюсь, то нахожу только одно слово — счастье. Я хочу быть счастлив, пока живу, ибо что касается смерти, то, никогда не испытав ее, я и не представляю, что она значит, и потому мой ум не может даже примириться с ней. Я знаю, что значит жить, но не могу догадаться, что значит умереть. Итак, я хочу быть счастливым, а иногда, говоря по правде, даже веселым, и мне трудно поверить, чтобы такое желание не было всеобщим. И все, что стремится к счастью, я стараюсь взрастить, насколько это в моих силах. Помимо того, когда я, далее, задумываюсь над своей жизнью, то обнаруживаю, что она, как мне кажется, находится под влиянием двух преобладающих стремлений, которые, за неимением лучших слов, я должен назвать стремлением к деятельности и стремлением к праздности. То одно, то другое, но всегда они дают о себе знать, требуя удовлетворения. Когда мною владеет стремление к деятельности, я должен что-то делать, иначе мною овладевает хандра и мне становится не по себе. Когда же на меня нисходит стремление к праздности, то мне становится тяжело, если я не могу отдохнуть и предоставить своему уму поблуждать среди всевозможных картин, приятных или ужасных, которые подсказаны либо моим личным опытом, либо общением с мыслями других людей, живых или умерших. И если обстоятельства не позволяют отдаться этой праздности, то в лучшем случае я должен пройти сковозь терзания, пока мне не удастся возбудить энергию, чтобы она заняла место праздности и снова меня осчастливила. И если у меня нет способа возбудить энергию, чтобы она выполнила свой долг, вернув мне радость, и если я должен трудиться вопреки желанию ничего не делать, то я в самом деле чувствую себя несчастным и почти хотел бы умереть, хотя мне и неизвестно, что такое смерть.