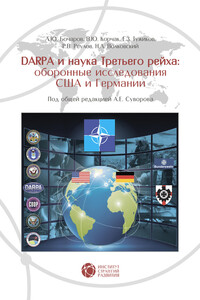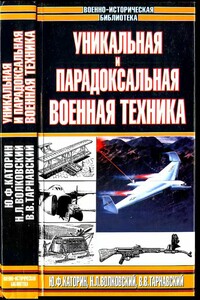111 баек для журналистов | страница 54
Первая ростопчинская «афишка» – лубочная картинка с текстом – увидела свет 1 июля 1812 года. Конечно, слова выпившего Карнюшки Чихирина, от имени которого ведется повествование, могут покоробить современного интеллигентного человека своей хвастливостью и шаржем. Но возбужденному близкой опасностью московскому простонародью они такими не казались. Конечно, угрозы Чихирина в адрес наполеоновских солдат выглядят смешно: «Как! К нам? Милости просим, хоть на святки, хоть и на масленицу; да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой… Полно тебе фиглярить: ведь содцаты-та твои карлики!» Но в то время простой народ не столько рассуждал, сколько чувствовал и видел в этой карикатуре истину.
Германский исследователь Шницлер считает ростопчинские афиши вполне уместными для своего времени, а в прибаутках московского главнокомандующего, которыми полны его обращения к населению, видит необходимую приправу, делавшую афиши популярными.
Об умении Ростопчина влиять на народ восторженно отзывались многие современники. Так, М. Дмитриев пишет, что афиши «производили на народ московский огненное, непреоборимое действие!.. Они много способствовали и к возбуждению народа против Наполеона и французов, и к сохранению спокойствия Москвы». Дмитриев называет Ростопчина «гениальным человеком, понявшим свое время». Еще один современник, князь П. А. Вяземский – поэт, литературный критик, академик Петербургской Академии наук – в своих мемуарах «Воспоминание о 1812 годе» тоже признает большое значение афиш Ростопчина во влиянии на народ. Рассказав о том, что Ростопчин отклонил предложение Карамзина составлять афиши, князь Вяземский замечает: «Нечего и говорить, что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее и вообще имели бы более правительственного достоинства; но зато лишились бы они этой электрической, скажу, грубой, воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ – не афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо понял бы его».
Диапазон применения байки. При изучении истории отечественной журналистики и воздействия СМИ.
№ 41. Байка «Журнал стоит кафедры»
В 1840 году В. Г. Белинский написал: «Журналистика в наше время все: и Пушкин, и Гете, и сам Гегель были журналисты. Журнал стоит кафедры».
Мораль. Белинский считал, что в деле воспитания и образования современников журналистика не уступает университетскому образованию.