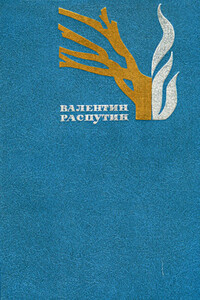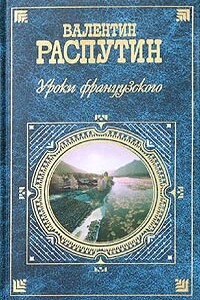Сибирь, Сибирь... | страница 26
Вот и сам Ермак — не было в святцах такого имени, стало быть, кличка. Но откуда она взялась — от созвучия ли с именем или действительно от артельного котла, называвшегося ермаком, когда будто в молодости кашеварил в волжской ватаге будущий завоеватель Сибири, или откуда-то еще. Кажется, никто не оспаривает, что в поход он шел Ермаком. Но в татарском языке есть это слово, означающее прорыв, проран. И если согласиться с историком прошлого века Павлом Небольсиным, что Ермак и прежде своего звездного прорыва бывал на Чусовой и знал пути в Зауралье, не мог ли он в таком случае сталкиваться с татарами в коротких набегах раньше и получить свою кличку от них за военную удаль. Этой догадкой больше того, что запутано, все равно не запутать, а ежели правда лишний раз и охнет от досады, нам не услышать.
Обо всем спорим. С детства знали по Карамзину, что столица Кучума, занятая Ермаком, называлась Искером или Сибирью. Позже Искер как-то само собой стал заглыхать перед более привычной Сибирью, появились и предположения, что название это было совсем в другой стороне. Хорошо: Сибирь. Город, давший имя всему зауральскому материку, а этимологически означавший центр, сборный пункт. Только установились, историки переправляют: не Сибирь, а Кашлык — так писалось в летописях. И будто был этот город до того мал, что триста или четыреста оставшихся в живых Ермаковых казаков перезимовать в нем не поместились и ушли в устье Тобола в улус Карачи, где и провели все три зимовки. Если так, то кого осаждал с ранней весны несколько месяцев татарский мурза Карача, когда среди осажденных в Кашлыке называются и Ермак и его атаман Мещеряк (Кольцо к тому времени погиб)? Не собираясь вступать в дискуссию с историками, у которых там, где не хватает документов, должно бы быть чутье, способное проникать за века, нельзя все же не заметить, до чего они вошли во вкус раскольничьего толкования Ермаковой истории, предлагая раз за разом все новые и новые версии, строящиеся как не на иртышском ли песке. Как бы ни противоречили одна другой летописи, но нигде в них, и это вынуждены признать историки, нет упоминания о карачинской зимовке. Откуда же она взялась? Вероятно, из желания связать концы с концами в своей схеме, мало считаясь с тем, что стало фактом.
Точно так же почему-то главная битва у Чувашского мыса, к которой Кучум успел приготовиться, сделав засеки и вал, собрав многочисленную рать (накануне чуть было не дрогнули казаки при виде Кучумова войска), обратилась нынче в незначительный эпизод, в приключение, в исторический дым без огня. Казаки при начале боя дали залп, остяцкие князьки показали тыл, Кучум, следивший за боем с горы, после ранения царевича Маметкула не мешкая обратился в бегство, открыв путь к своей столице. У казаков потерь якобы почти не было. «Бысть сеча зла, за руце емлющи, сечахуся» — преувеличение. И опять вперекор со свидетельствами Ермаковых казаков из синодика. Мол, составлялся синодик спустя сорок лет после события, и казаки мало что помнили. Не помнили, где им выпал главный жребий в сибирской судьбе — здесь или в Абалаке? Да об таком истлевающие кости и те не забудут и не перепутают. Тем более что писался когда в Тобольске синодик, Чувашев мыс был тут, под носом у них, в полутора верстах от Тобольска.