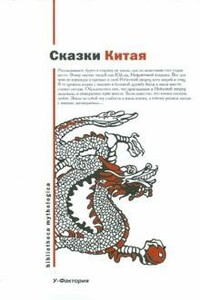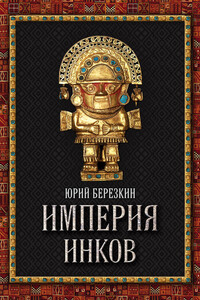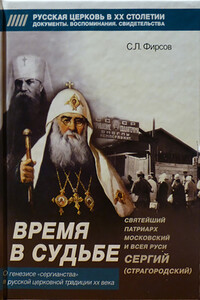Из Старого в Новый Свет: Мифы народов мира | страница 50
История немецкого миграционизма трагична. Воодушевленные своими идеями, австрийские и немецкие исследователи отправлялись в удаленные районы планеты и собирали там уникальные материалы, в том числе колоссальные собрания мифологических текстов. Без работ Мартина Гузинде (1886–1969) на Огненной Земле, Пауля Шебесты (1878–1967) среди семангов полуострова Малакка и пигмеев Конго, Лео Фробениуса (1863–1938), вдоль и поперек пересекшего Африку, мировая этнография лишилась бы своего золотого фонда, к которому обращаются все новые поколения исследователей. Однако те исторические сценарии, которые предлагали австрийцы и немцы на основе собранных материалов, были сомнительными, порою нелепыми. Иногда трудно поверить, что эти этнологи из континентальной Европы являлись современниками Боаса и его коллег, хорошо видевших разницу между обоснованными гипотезами и беспочвенными фантазиями. Кроме того, многие немецкие ученые скомпрометировали себя уже самим фактом того, что работали в Германии при нацистах, так что цитировать их после Второй мировой войны уже не принято. Все это способствовало дискредитации не только конкретных выводов миграционистов, но и самого этого направления мысли. Прошлое человечества стало превращаться в мозаику из множества отдельных культур, намертво укорененных на своих территориях. Этнологи-функционалисты практически вывели вопросы древних миграций и сопоставительный анализ культур друг с другом за пределы того, чем должен заниматься ученый.
В России, кстати, тоже нашелся миграционист, начавший работать даже раньше немецких единомышленников и практически с ними не связанный. Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), не имевший специального историко-культурного образования, много путешествовал по Южной Сибири и Центральной Азии, где собрал такой же уникальный материал по этнографии и фольклору, что и Лео Фробениус в Африке. Потанин обратил внимание на большое количество фольклорно-мифологических параллелей, тянущихся с востока на запад через всю Евразию. Однако в дальнейшем он увлекся дилетантскими лингвистическими изысканиями, наивно объясняя зафиксированные в европейском фольклоре названия, имена и сюжеты и предлагая для них тюркские и монгольские соответствия. Домыслы дискредитировали не только автора, но и само направление, которое он представлял. Что же до открытых Потаниным трансконтинентальных параллелей, то фольклористы предпочли их больше не замечать.