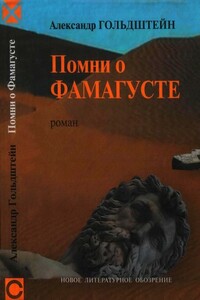Спокойные поля | страница 9
Шесть дней назад, рокочет трубка, в исходе декабря, сухого и ясного, как зимний, по приказу Виши, воздух Алжира, он в избранной горстке подставивших плечи выносил гроб с учителем из панихидного морга. Погрузили, зашаркали, с обнаженными лысинами, с непокрытыми волосами, бельмастого карлу четверть века тому провожал весь Париж, а тут буднично, скромно, общегражданский чин похорон, цеховое прощание: то ли властитель пожиже, то ли биржа понизила котировку чьих бы то ни было дум. Конечно, в подсчетах на улице глаз попустительствует эмоциям, искажает число. Шарль Пеги, погребая Бернара Лазара, еще на холмах в квартале, где улицам были даны имена городов, европейские имена городов — страсть обитателей к путешествиям, страсть к железной дороге, жажда быть странствующими европейцами, и только что проложили метро, первую ветку со станцией Амстердам, Шарль Пеги сокрушался: за катафалком — ничтожная кучка, бедняки, горемыки, так жаль ему было пророка в пенсне, отошедшего в прямоугольнике света на прямоугольной кровати, словно сияющий талес заполнил сияньем окно. А полицейские сводки возьми — двести, триста, четыреста человек, народ прибывал. Но бедного Жака мы не почтили ходынкой.
Достойный финал, в сравнении с тем, что предвидится, семечки; ему и всей касте уготовано будет презрение, на могилку еще поплюют, его вздувшаяся литературная мысль, для нового поколения — а оно здесь, оно народилось — подобная облаку или бреду, лопнет, рассеется, и все потому, потому… Погоди, не перечь, я сейчас объясню, этого я не намерен писать в их трусливых газетах, венок поминальный составится без меня. На ночь глядя ушла, нацепив сиротский рюкзак, в желтой куртке и клоунских клетчатых шароварах, в кожаных туфельках, тапочках не для дождя. Датчанка, млечная розовость ланит и персей, по-турецки на коврике, на диване за ноутбуком, успевай кофе заваривать. Телесность в трагическом зверинце Агриппы, скрупулезный (нерастраченное скандинавское рвение) реестр заушаний и пыток, гугенот обольется слезами. От Жака я, благодарный ему, отдалялся и отдалялся, в два последних, два предсмертных его года особенно, без обиняков твердил, напрямик, а его уже изнуряли вливаниями («серьезный, ответственный курс», на жаргоне лечащей шайки), он во всем, кроме собственной смерти, изверился, не искал утешения, презирая утешителей, не боялся сказать, что боится, потому что был честен, а я лез, напрямик, добиваясь признания своей правоты, клещами ее вымогая, как стыжусь я теперь беспощадности. Он кривился, отшатывался, обреченно шутил — изыди, мол, Маркион. Но терпел, не изгнав, не разжаловав, дорожил, стало быть, моей ролью шута-правдолюбца. Мне было нечего терять: он через силу, задумчиво умирал, у меня иссякало пособие и ассистентство, бесплодное для дальнейшего пропитания. От вас, от всей вашей касты ждали не слова, не мысли, о нет. Литературная мысль, подобная облаку, бреду, коралловым рифам, подводному лесу, похоронному звону, плывущему по странице двумя параллельными лентами, сгинет в собственном мороке, для юбилейных оказий обзаведясь непосещаемым кенотафом. Не мысли, не слова, не этих развинчиваний, развенчаний, узловатых сплетений. От вас ждали крови. Пролития крови.