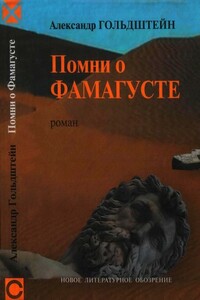Спокойные поля | страница 78
Обожженные деньги приютил конверт, хранимый в пахнущем маслом и стружкой ящике столяра, среди прочих диковин которого значки и монеты. Громко сказано — «среди прочих», раритетов наперечет, но что было, то было. Тяжелый, с острыми краями и булавочным заколом, к десятилетию вызволения знак уцелевших соузников Заксенхаузена, пирамида, стоящая на усеченной вершине, крематорий, покрытый знаменами наций. Екатерининский полполтинник, пышный профиль воззрился в отгрызенный реберный борт. Рубль александровых дней, послепожарных, блестящих, превосходящих сиянием прежние, а сияние тайное, в ложах масонских и клубах, неописуемо. Деловитый, плотненький с решкой-бизоном кругляш. Истребляемый бык возвеличился в славу заокеана. Любимец мой, бронзовый, не крупнее мизинца, соловей на цепочке, продетой в кольцо на хохластом загривке. По мнению друга семьи, соловей — отличительный признак, как стеганый халат и косица, советника в городе, занавешенном от подчиненной страны. Прикрепив к лацкану соловья, мягчайше ступал по коврам, и не встрепетывались дворцовые евнухи, учтивые ласкуны, попечители каллиграфии, танцев и казней, за десять покоев чуткие к шепотам, шепоткам, шепоточкам, гонгом гнусавым их заглушай или катящейся грушей.
Читатель рассержен — ты заболтался, отвлекся, погряз в околичностях. Что там еще? — выпустил нить, пробуксовка. А я вам на это: «Рабочий» не Arbeiter. Вышкомонтажники, смоляные бурильщики, судоремонтники, паровозных дел мастера в несмываемом коконе копоти, сырцовые хлопкосборщицы, эти чадящие головешки в платках, морщинистые старухи к своему тридцатому году — разве ж то Arbeiter. Копошатся у ног светлоизваянной, в гиацинтах и астрах расы героев с эддическими камнедробящими молотами, вертятся, не соскоблив с себя грязных одежек, у могучих подошв — сколь разнится прославленье работы на западе и на востоке. Но ради твоего искусства прорицать, скажи мне, Трофоний, что такое герой? Это существо, составленное из бога и человека. А Хармолей, мегарский красавец, за один поцелуй которого платили по два таланта, человек или бог? Сразу и не рассудишь, Менипп, на досуге как-нибудь поразмыслим.
В чайхане расстилал скатерку «Рабочего», подслеповатый листок, оповеститель кесарии на востоке, с шахматами на последней странице, заверстанный к некрологам столбец. Справа «Мальте Лауридс Бригге», слева «Нильс Люне», слева направо и справа налево, не скользя, но взрывая пласты, как распахивают поле быки. Надо мною хихикали, я и без «Бригге», без «Люне» был пугало, гротеск с арабеской для черноусых, бросающих зары, стучащих пластмассой по размалеванным доскам мужчин. Привыкли, когда заявился в девятый, в семнадцатый раз, что делать, тянулся в кофейню, мне могли предложить только чайную, не Латинский квартал. Но если б судьба, захотев быть жестокой, решила отнять мои книги, по крупицам намытые у букинистов на Ольгинской, где за гроши под платаном одаривал женщин горбатенький тат-иудей; у храбрецов на Андрониковской, в сыром дворе с лотками буквой «П», изнутри и снаружи обтекаемыми возбужденной толпой (Academia, кушетка по-венски московских двадцатых годов, православный расцвет — отрок Варфоломей узрел бредущих по косогору философов); невесть у кого по квартирам, всякой всячиной начиненным, от ягодок любострастия, земляничек в картинках, до Коминтерновых ересей, укрываемых жильцом дома 17-бис на Бондарной, язвительным, курящим «казбек» старичком, в труднейшие годы не скормил протоколы мышам, — если б судилось лишиться всего, и в придачу походов, азарта, кружения над добычей, и наскребания-отрывания рубликов в пользу насущных причуд, мне, я клянусь, о ту пору хватило бы «Мальте», хватило бы «Люне» на газетном листе.