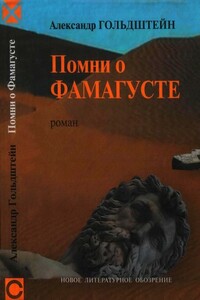Спокойные поля | страница 37
Улыбался, оглядываясь, ему нравилось среди своих, в этом собрании, в этом соборе, кровь не чужая, правы утюжащие стариканы, мне тоже приятна истомная тяжесть в ногах, мы часа два простояли, не готовые к подвигам веры, не став дожидаться христосования.
Плотью и кровью Спасителя насытиться можно, бормотал, возвращаясь со мной неизвестно куда, мы бесцельно, как мне казалось, петляли синими улицами, ища иллюзорную пристань, пригрезившийся, лишь бы домой не идти, причал, не находили, промахивались, — и пасхою сырной, и поминальной кутьей, а переменами — нет. А ты вон где, родимый, спрятался аки тать, блеснула негасимая полоска шалмана, лимонная световая игла ночных согрешений в норе, спутник мой постучался условным, ставень защитный со скрипом сложился крылом архаичного воздухоплава из комиксов. Грязный столик, нас поджидающий, растерзанная кабацкая пьянь в дыму по углам, чурек с бруском брынзы, соленый, толсто порубленный огурец, каждому здесь подносимые с кольцами лука в зернышках тертого барбариса, мне чаю, прошу я хозяина, ну а я отопью, смеется Портнов.
Ошибается фронда, перемены нам ни к чему. Только-только без казней на пепелище, и хрустом костей своих иллюстрировать чей-то незрелый эскиз, испятнанный пошленьким честолюбием, — извините, пожалуйста, не хочу, да откуда и взяться им, переменам, в нашей то мерзлоте, то субтропиках. Все должно быть незыблемо, вечно, как в церкви, тогда поживем еще в расщелинах валунов — ты книжку выроешь из-под земли, я своего не упущу.
Спокойствие нынешнее — собачье, похабное, жандармское снизу доверху соприродно державе, великой ордынской татарщине, великоханьской китайщине, такой и задуманной Провидением, народному Духу, обманщику и лентяю, слесарем и сантехником, блюющим у нас во дворе после смены.
Так что оставь мерехлюндии, мы в широком дыхании родины, в матушкиной незалатанной пасти. Русский порядок с карнаями, рушниками и дастарханами по краям, прободенная алкоголями печень, гарпун и острогу окунули в оцет, глазки песцовые на мушке у корноухого деда в треухе, незлобивого зверя, из той же печени выползшего, требуха и молоки намотаны на рукав, в селедке оттиснута директива, мы в широком дыхании, в дуплистом неспиленном зубе, одигитрия над кадушками и бадьями с засолом, он хмелел, что и требовалось.
Пил уже крепко, заметно, но как-то на грани, не впадая в безудержность; вряд ли сдерживался, просто всему свой срок, и разгулу сожженному тоже. Потом эту грань превзошел, набираясь стаканами. Бурдючно вспухал, багровел, теряя рассудок, лез на рожон, задирался. Вымазав пеплом куриную косточку, с идиотическим хохотом выстрелил в собутыльника, корпулентного парня, гордеца и мужчину. Как последняя тварь, на коленях я не допустил избиения, дружок невменяем, пощади, эфенди, в другой раз волок его на себе. Рубли на зелье выдавал кооператив, где на остатках сознания строчил он дипломы милицейским женам и правил биографии исламских мучеников, продаваемые в тоненьких книжках с портретами, мне этот вздор надоел. Уайльдом с угощеньицем, обсужденьем «Эклог» я уколол его мозг. Уязвленный, очнувшись, грустил, что неплохо бы окоротить непотребство (бессильные порывания), продолжить письмо, новых плодов его музы увидеть, однако, не привелось. Добром это кончиться не могло, хоть ясных известий не поступало, а мутные пересуды в испорченном, из третьих уст в седьмые уши передатчике, путаница о незадавшемся разговорчике на гнилых мостках за шашлычной, в самую темень, у самого котлована, я верить отказывался — чересчур наставительно, фабульно-закругленно. Господь, примем эту гипотезу, бывает же иногда криволинеен, уклончив (знак вопроса повис в нерешительности).