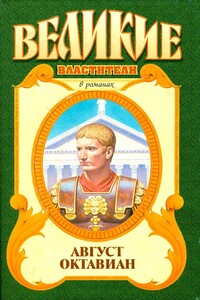Стоунер | страница 69
Эдит вернулась в Колумбию только после Нового года, так что Рождество Уильям с дочерью отпраздновали вдвоем. Рождественским утром обменялись подарками; для некурящего отца Грейс в школе при университете, не чуждой новым веяниям, смастерила, как умела, пепельницу. Уильям подарил ей новое платье, которое сам выбрал в магазине, несколько книг и набор для раскрашивания. Большую часть дня просидели у небольшой елки: беседовали, любовались отблесками на елочных игрушках и мерцанием потаенного огня мишуры среди темно-зеленой хвои.
В рождественские каникулы — в этот странный пустой промежуток посреди напряженного семестра — Уильям Стоунер начал понимать две вещи: что Грейс стала занимать в его жизни чрезвычайно важное место и что он имеет шанс стать хорошим преподавателем.
Он был готов признать, что до сей поры таковым не был. С тех времен, как он с грехом пополам вел свои первые занятия по английскому у первокурсников, он постоянно ощущал разрыв между тем, что чувствовал, погружаясь в материал, и тем, что мог дать студентам. Он надеялся, что время и опыт постепенно уничтожат разрыв, но этого не происходило. То, во что он сильнее всего верил, что дороже всего ценил, он портил в аудитории самым безнадежным образом; живейшее из живого чахло, претворяясь в слова; что трогало его до глубины души, с языка сходило холодным. И гнетущее сознание своей несостоятельности сделалось привычным, таким же неотделимым от него, как сутулость.
Но в те недели, когда Эдит была в Сент-Луисе, он, читая лекции, временами так увлекался, что забывал и о своей преподавательской несостоятельности, и о себе, и даже о студентах в аудитории. Временами его так подхватывало и несло, что он начинал заикаться, жестикулировать и переставал обращать внимание на записи к лекциям, которыми обычно руководствовался. Поначалу его смущали эти всплески энтузиазма, он досадовал на свое слишком фамильярное обращение с предметом и извинялся перед студентами; но когда они начали подходить к нему после занятий, когда в их работах появились намеки на воображение и ростки несмелой любви, он стал решительнее делать то, чему его никогда не учили. Свою любовь к литературе, к языку, к таинственному выявлению движений ума и сердца через малозначащие на первый взгляд, странные, неожиданные сочетания букв и слов, через холодный черный шрифт, — любовь, которую он раньше скрывал как нечто недозволенное и опасное, он стал выражать — вначале робко, потом храбрее, потом гордо.