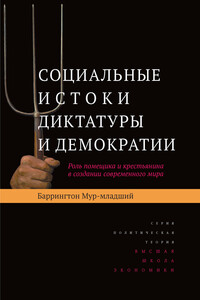Социология власти | страница 50
Многие идеи Питерсона получили развитие в теориях «машин роста» и «городских режимов», пришедших на смену элитистским и плюралистическим подходам. Однако новые теории имели два важных отличия от подхода Питерсона. Во-первых, их сторонники не согласились с тем, что местная политика настолько ограниченна, что не имеет существенного значения, а действия представителей публичной власти фактически детерминированы внешними обстоятельствами. В этом случае политика «утрачивает свою автономию», а ее учет – «объяснительную релевантность» (см. [Mollenkopf, 2007:104]). Во-вторых, они подвергли сомнению идею о том, что все города имеют примерно одинаковую конфигурацию «интересов», которая может быть понята без уяснения актуальных преференций жителей города, реализуемых через политическую систему и другие каналы, а также конфигурации основных акторов городской политики. В новых подходах развитие города и властные отношения в нем обусловлены не (только) некоей внешней логикой, а являются результатом борьбы и торга между различными группами («политика имеет значение»). Их результаты отнюдь не всегда способствуют достижению «общего блага», а выгоды одних групп могут обеспечиваться за счет других (см. [Harding, 2009: 34–35], а также [Ross, Levine, 1996: 79–81]).
Теория «машин роста» (growth machines)[77] была предложена американским исследователем Харви Молотчем в 1976 г. [Molotch, 1976: 309–355] и впоследствии наиболее обстоятельно изложена в его совместной с Джоном Логаном монографии [Logan, Molotch, 1987]. Молотч исходил из того, что выделение нескольких проблемных сфер как равнозначных неправомерно. Здесь он продолжает традиции Ф. Хантера, который считал, что фундаментальные выводы о распределении власти следует делать на основании изучения важнейшей сферы принятия решений, вокруг которой фокусируется политика в городском сообществе, а именно – сферы принятия решений по экономическим проблемам. Этот и некоторые другие принципиальные постулаты теории демонстрируют очевидную преемственность с элитистскими когнитивными схемами[78], хотя, как мы увидим далее, Молотч и его последователи предложили значительно более развернутое и обстоятельное обоснование приоритета экономической проблематики как центра городской политики; при этом они сохранили индивидуалистический посыл, присущий классическим исследованиям, подчеркивая, что «активность предпринимателей всегда была и остается решающим фактором формирования городской системы» [Ibid.: 52].