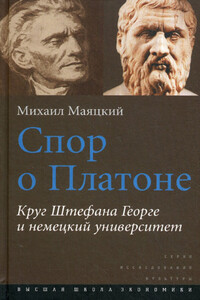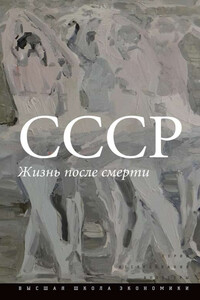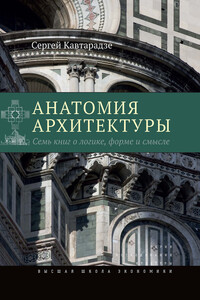Барабанщики и шпионы | страница 31
Сережа, если воспользоваться терминологией Троцкого, – барабанщик эпохи «сталинского Термидора». Барабанщики из французских книг принадлежат к более раннему этапу революции, временам якобинцев. Это время наивысшего подъема революционной энергии, и легко понять, что именно этот этап в истории Франции и Гайдар, и Троцкий отождествляют со временем Гражданской войны в России, ранним периодом большевизма и первыми годами советской власти. Но к тридцатым годам наступила уже совершенно другая эпоха («не выдерживают нервы, треплется сознание, изнашиваются характеры»[37]). Гайдару остается только тосковать о революции, к тому же многих его друзей уже посадили или расстреляли.
Вот зачем была написана «Судьба барабанщика». А поскольку сказать прямо было нельзя (от первого варианта повести остался только абзац про белых и красных, один раз промелькнувший в «Пионерской правде» и потом исчезнувший), писатель спрятал свои мысли под обложку якобы французской книги.
Сережа Щербачов не зря ассоциирует себя с французским барабанщиком: «Это я подавал сигналы». Персонаж Гайдара выходит прямиком из французской традиции. И юные герои французской революции – барабанщик Жозеф Барра и Агриколь Виала, канонизированные после гибели и, как считается, навеявшие Виктору Гюго образ Гавроша, и сам Гаврош, погибший на баррикадах, и литературный барабанщик Паскаль из «Марсельцев», и барабанщик Тоби, придуманный Делормом, и реально существовавший пятнадцатилетний барабанщик Стро, погибший 15 октября 1793 года и попавший в ту же книгу, – все это подлинные и вымышленные предшественники Сережи. Фраза, которую пишет Гайдар, после того как Сережа падает, раненный: «…гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю», – скорее, пришла из французской литературы. И не «Марсельеза» ли звучит в Сережиной голове, когда он собирается выстрелить?
III. Война
Мы отыскали в «Судьбе барабанщика» целую систему историко-политических подтекстов и обнаружили ряд литературных параллелей. Но книгу можно представить и как реалистическую и даже бытописательскую, столь подробно и буднично отображен в ней советский бытовой мир. Нет такого предмета или явления конца советских тридцатых, которые не попали бы на ее страницы. Если выловить из текста все детали повседневной жизни, можно получить филигранно точную картину городской обыденности тех лет, вплоть до запахов и ругательств.