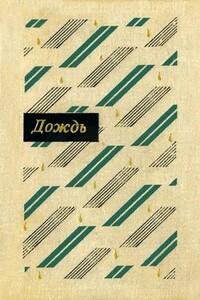Осень патриарха | страница 61
Без него официальная жизнь протекала так же, как и при нем, – газеты режима печатали фиктивные снимки с торжественных приемов, на которых он, сообразно характеру приема, появлялся в разных мундирах; радио регулярно передавало его речи, слышанные нами столько лет во время национальных праздников; он продолжал жить среди нас – выходил из дворца, входил в церковь, спал, пил, ел, как утверждали фотоснимки, хотя все знали, что он еле передвигается в своих неизменных дорожных сапогах по захламленному дворцу, его прислуга сократилась до трех-четырех денщиков, кормивших его и пополнявших запасы пчелиного меда и однажды все-таки прогнавших коров, которые разгромили помещение генерального штаба и перебили всех фарфоровых маршалов в потайном кабинете, где он должен был умереть согласно предсказанию гадалки, им, впрочем, забытой; денщики тоскливо ждали от него хоть каких-нибудь приказаний и не чаяли дождаться того мига, когда он, наконец, повесит фонарь у порога и раздастся грохот и лязг трех щеколд и трех цепочек на дверях спальни, воздух которой – без моря – не освежался, – только тогда денщики уходили в свою комнату на первом этаже, уверенные, что он будет спать до рассвета как убитый; однако он, вздрогнув, просыпался и начинал сторожить свою бессонницу, ходил, как привидение на огромных ногах, по мрачному дворцу, не замечая ни мерной жвачки коров, ни дыхания кур, спящих на вице-королевских вешалках; о ходе времени ему напоминал свист ветра над лунной пустыней бывшего моря; он видел мать свою, Бендисьон Альварадо, с веником из зеленых веток, которым она подметала обгоревшие листы первого издания Корнелия Непота, листы из книг забытых риториков Ливио Андронико и Сесилия Эстато, превращенных в мусор той кровавой ночью, когда он впервые вошел в этот освободившийся для него Дом Власти, когда на улицах еще сопротивлялись последние баррикады самоубийц выдающегося латиниста, генерала Лаутаро Муньоса, царствие ему небесное, дураку; когда, озаренные пламенем пожаров, шагая через трупы личной охраны уважаемого президента, он, дрожащий от лихорадки, и мать его, Бендисьон Альварадо, вооруженная веником из зеленых веток, пересекли патио, поднялись, спотыкаясь в темноте о трупы коней из великолепной президентской конюшни, по лестнице, ведущей из вестибюля, и дошли до зала заседаний; было трудно дышать из-за густого кислого запаха пороха и конской крови, – «Там мы увидели кровавые следы босых ног, ибо здесь прошли те, кто ступал в лужи конской крови, увидели такие же кровавые отпечатки рук на стенах коридоров, а в зале заседаний – истекающее кровью тело красавицы флорентийки с боевой саблей в сердце, – и это была жена президента; увидели рядом с нею девочку, похожую на игрушечную заводную балерину, с простреленным лбом, – и это была девятилетняя дочь президента. И наконец мы увидели труп гарибальдийского цезаря – президента Лаутаро Муньоса, самого ловкого и умного из четырнадцати федералистских генералов, сменявших друг друга в кровавой чехарде борьбы за власть в течение одиннадцати лет, – единственного, кто осмелился сказать английскому консулу «нет» на своем родном языке, и теперь наказанного за это, лежащего босиком, с черепом, расколотым пулей, пущенной в рот после того, как ему пришлось пронзить саблей жену, застрелить дочь и прикончить сорок два андалузских коня, чтобы и они не достались карателям из британской эскадры; и тогда-то их командующий Китченер сказал нашему генералу, показывая на труп: «Видишь, генерал, как кончают те, кто поднимает руку на своего отца? Не забудь, когда будешь править!»