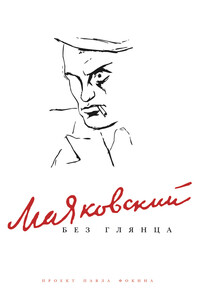Твардовский без глянца | страница 63
Алексей Иванович Кондратович:
«– Попробуйте раздуть горн на этой главке, в ней уже есть жар, подбавьте, только не увлекайтесь…
– Здесь вы попали на жилу, может быть, случайно, но это уже не важно, а дальше соскользнули, и пошел один мох с болотом…
– Все шло хорошо, а тут вас стало относить, и все дальше и дальше, и сюжет остановился. Выгребайте и оставьте в покое то, что вам не удалось, не мучьте вымученное…
Разговоры о литературной работе у него полны вот таких сравнений, почерпнутых из детства, от первых ранних своих впечатлений, в них природа и работа естественно перекликаются со сложением стихов. Специальной литературоведческой терминологией он пользуется мало, словно не хочет отъединить работу над стихом от всего остального, что делают люди. Немало у него сравнений и из военного быта и обихода.
– Смело захватывайте территорию, продвигайтесь вперед, но не забывайте выставлять комендантские посты. Вы понимаете меня? Если вы будете рассчитывать на заведомую черновизну, потом, мол, выправлю, тогда попрет одна ерунда, и нечего вам будет поправлять…» [3; 15–16]
Сергей Павлович Залыгин:
«Александр Трифонович придавал очень большое значение заглавиям произведений.
Требования у него были здесь в общем-то те же, что и к литературе в целом: чтобы было не броско, не искусственно, а скромно и как можно более по существу дела.
– Заглавие не реклама, а самое произведение. Неона тут не нужно, не нужно думать, что кто-то будет читать стихи или роман в темноте глубокой ночи. Выдавать авторский замысел заглавием с самого начала тоже нельзя. От страницы к странице заглавие должно наполняться смыслом и значением, развиваться вместе с сюжетом. Простые слова заглавия под конец чтения должны наполняться смыслом, становиться мудрыми, и если это произойдет, их простота окажется сильнее и значительнее самого броского заголовка. И полюбятся они больше. Так называемые „крылатые слова“ – антиподы заглавий, другое дело, что заглавие может стать когда-нибудь крылатым словом.
– Ну, а примеры?
– „Евгений Онегин“, „Герой нашего времени“, „Шинель“, а, может быть… может быть, и „Василий Тёркин“.
– Но есть и другие, очень значительные уже с самого начала, философские: „Война и мир“, „Отцы и дети“, „Преступление и наказание“?
– Ну, если вы действительно ничуть не сомневаетесь в своих силах, если не боитесь с самого начала взять перед читателем обязательство рассказать ему о том, что такое война, а что такое мир, тогда другое дело. Все другое дело, что выше нашего суда». [2; 278]