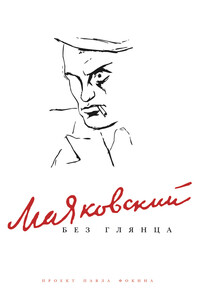Твардовский без глянца | страница 32
Но я не унимался. Истина – раз, а во-вторых, и вино шумело…
– Что – Федор? Веники-то для чего заготовляют? Чтобы листом париться. А в августе? Прутья одни останутся, все листы опадут. Надо же отличать веники от розог. Таким веником можно пороть, драть человека, но не парить.
Твардовский задышал… Но, видимо, этот довод был достаточно убедителен. На какое-то время смолк.
Твардовский знал толк в работе, в ремеслах. ‹…› И вдруг – возможно ли это? – нашелся молокосос (так я, конечно, представлялся Твардовскому), который уличает его в незнании дела. У него не хватило силы признать свой промах. Или не захотел, не знаю почему». [12; 224]
Вячеслав Максимович Шугаев:
«Он с любопытством наблюдал за нашим странным, полумонашеским, полурасхристанным бытом. Порой вмешивался:
– Ну кто же так яичницу жарит?! Сухой блин будет, а не яичница. Давайте покажу.
Резал мелко сало, ссыпал в сковородку, давал подплавиться кусочкам, прозрачно зажелтеть, потом разбивал яйца. Снимал пышную, с ярко-янтарными глазами, в шипящих, булькающих фонтанчиках.
– Вот как это делается!» [2; 500–501]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«Твардовский так и не стал до конца городским человеком: опасался переходить улицу, на шумных магистралях вцеплялся в рукав своего спутника. Его внимание притягивали не механизмы, а организмы. Вряд ли он мог устранить простейшую неисправность в часах, наладить радиоприемник или хотя бы починить электропроводку в квартире. Как-то сказал с печальной самоиронией: „Есть три вещи, которым я мечтал научиться, да, видно, в этой жизни не успею: водить автомобиль, печатать на машинке и выучить иностранный язык“. (Он знал немецкий, но в скромных пределах.)
Зато все, что произрастает, цветет и плодоносит, он считал подвластной ему сферой и стремился знать до тонкости. А. Т. сердился, когда в описаниях природы автор ограничивался общим определением: дерево, птицы, цветы.
– Для меня это улика. Дерево – так скажи какое: ель, береза; осина? Птица – так дятел это, дрозд или синица?
„Разнотравье“, которым отделываются многие деревенские пейзажисты, было одним из самых скомпрометированных для Твардовского слов. Ведь трава – это мятлик, ежа сборная, пырей. Все они были для него непохожи друг на друга и жили каждый под своим именем в его поэзии». [4; 168]
Григорий Яковлевич Бакланов:
«Концом своей палочки он шевелил скошенную траву и говорил о том, что вот пишут „пахло сеном“, а сколько и каких запахов имеет скошенный луг! Когда только скошен, когда его солнцем печет полуденным, когда граблями ворошат невысохшую, провянувшую траву. И вечером, когда луг влажен. И сложенное сухое сено… Все это разные же запахи!» [2; 524]