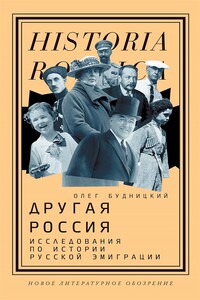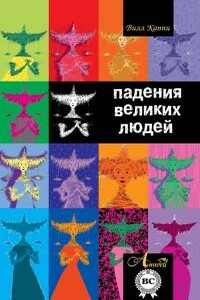Русско-еврейский Берлин, 1920–1941 | страница 64
Бюро продолжало свою деятельность вплоть до середины 1930-х годов и за это время успело поддержать несколько десятков тысяч евреев: помощь заключалась в защите их от высылки, снабжении документами, предоставлении жилья, часто помощи при трансмиграции (наряду с Палестиной направлениями миграции были страны Западной Европы и США) и репатриации. Однако основной путь решения «восточноевропейской проблемы» Бюро видело в трудоустройстве мигрантов. В частности, в 1922 году Бюро была опубликована цифра в 40 тысяч рабочих мест, предоставленных восточноевропейским евреям300.
Организации, входящие в состав Бюро, не всегда проводили благотворительные акции под его эгидой. Иногда они действовали изолированно: так, например, в 1922 году Благотворительный союз немецких евреев взял на себя заботу о группе еврейских детей с Украины, оставшихся сиротами после погромов. Дети были распределены по детским домам Германии, получили материальную поддержку и профессиональное образование301.
Состав еврейской эмиграции был неоднороден, к «восточным евреям» формально относились и галицийские ремесленники или мелкие торговцы, и петербургские юристы или литераторы, которые едва ли сумели бы найти общий – в буквальном смысле слова – язык со своими сородичами. Стереотип остъюден, закрепившийся в сознании немецкого (да и не только немецкого) обывателя, – бывший житель местечка, ведущий традиционный образ жизни и говорящий на идише. Русские евреи стремились подчеркнуть свое отличие от местечковых евреев: русский еврей – обитатель крупного города, носитель русского языка и русской культуры, принадлежащий к русской интеллигенции. Во всяком случае, к созданию именно такого образа стремились деятели Союза русских евреев, важнейшей организации самопомощи, созданной русско-еврейскими эмигрантами в Германии. Подобный стереотип, отчасти верный (но лишь отчасти!), утвердился и в исследовательской литературе302. В реальности, однако, большинство бенефециантов того же Союза русских евреев вовсе не относилось к интеллектуальной элите, о чем подробнее пойдет речь в следующей главе.
Русские евреи, дистанцируясь в определенной степени от своих менее европеизированных единоверцев, в то же время отнюдь не отказывались от этих бедных – в прямом смысле слова – родственников. Более того, они восхищались их естественностью и приверженностью традициям. Суждения русских евреев об остъюден напоминали суждения немецких евреев, не случайно в их текстах можно уловить знакомые интонации. Так, тема родства с восточноевропейскими евреями и благотворного влияния остъюден на евреев западных была центральной в статье Е. Рабиновича с характерным названием «Ex oriente lux!» («Свет с востока!»), посвященной «германским настроениям» и опубликованной в парижском журнале «Еврейская трибуна». Анализируя роман «Тоѓу ва-воѓу», созданный немецким сионистом С. Гронеманом, Рабинович замечал: