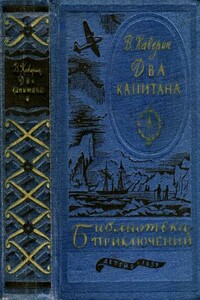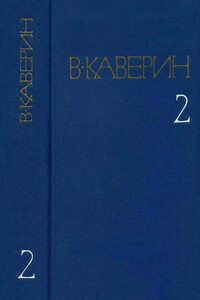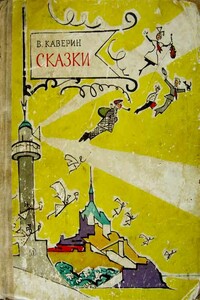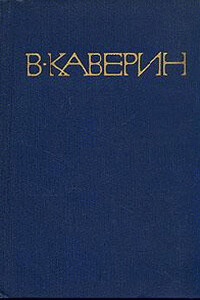Литератор | страница 56
Об экранизации Мотылем пьесы Островского «Лес» я писал дважды — в книге «Письменный стол» и в 8-м томе собрания сочинений. Фильм лежит на полке[93]. Придется подождать.
Два артиста
Бывают люди в искусстве и в науке, которые действуют, заботясь о том, чтобы их талант послужил им на пользу во внешнем смысле этого слова, то есть заботясь о карьере, о признании, о положении. Но есть и другие — думающие только о том, чтобы их действия приносили пользу делу, которому отдают они свою жизнь, науке или искусству. Они посвящают каждый день свой и час лишь тому, чтобы работа их была активной и двигала вперед искусство или науку. Независимо от личных своих интересов.
Таковы были мои друзья, работавшие в совершенно разных областях, — Зинаида Виссарионовна Ермольева, знаменитая изобретательница русского пенициллина, и Соломон Михайлович Михоэлс.
Именно у Ермольевой, которая была очень дружна с Михоэлсом, я встретил его и в свою очередь близко сошелся с ним.
Он был человек, который в любом обществе становился центром внимания. Я любовался его остроумием, его необыкновенно меткими замечаниями, его глубокими оценками того, что происходило тогда на сцене и в жизни. Одну из знакомых Зинаиды Виссарионовны Михоэлс однажды спросил, имеет ли она отношение к искусству. Она ответила: «Маленькое» (была аккомпаниаторшей в каком-то кафе). Соломон Михайлович заметил со вздохом: «Я был бы счастлив, если бы мог сказать то же самое о себе».
Характерной чертой Михоэлса была безукоризненно правильная и, я бы сказал, мелодическая русская речь. Мы с женой пересмотрели весь репертуар его театра. Из множества спектаклей я хотел бы отметить только четыре.
«Фрейлехс». Это смелый и оригинальный спектакль. Не пьеса, перенесенная на сцену, а сама жизнь, показанная без признаков заметного преображения, без заметного украшения ее с помощью искусства. Просто показана была еврейская свадьба со всеми ее фольклорными признаками, с остроумным сватом, играющим роль доброго гения, с молодыми, которым по тринадцать-четырнадцать лет, со свекровью и тещей, чрезвычайно искусно танцующими как бы танец ссорящихся и мирящихся старых дам. Я, к сожалению, не знаю еврейского языка, но решительно все мне было понятно. Дело в том, что, хотя спектакль этот ничем не был похож на пантомиму, все выражалось с такой интенсивной выразительностью, что зрителю не требовалось знание языка. Конечно, особенно сильна была в этом спектакле характернейшая черта творчества Михоэлса — его народность, его тесная связь с народными обычаями, с народными поговорками, словом, сам фольклор оживал перед вами на сцене.