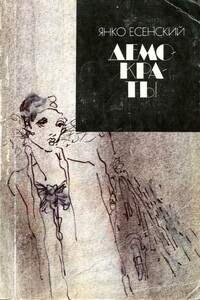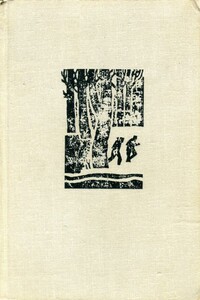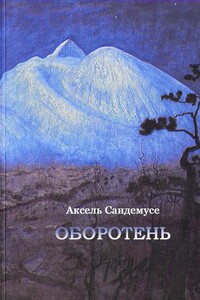Былое — это сон | страница 11
Я лежал и думал о человеке, который поджег кучу мусора на берегу реки в Канзасе. О цепочке, которую я взял у Агнес, и о моем брате, застреленном немцами. Теперь он покоится в Йорстаде в могиле наших родителей. Мои мысли продолжали блуждать, я вспомнил Мэри Брук, — бренность, бренность. И снова передо мной возник образ Сусанны, которую они убили, я увидел ее, лежащую у стены, избитую, окровавленную. Я знаю, как это произошло, я сразу увидел эту картину, когда в моей комнате прозвучали слова: «Среди последних жертв, погибших в немецком плену, была Сусанна Гюннерсен, урожденная Тиле, жена поэта Гюннера Гюннерсена».
Обрел ли наконец Гюннер покой?
Почему-то я вспомнил маленького мальчика, который стоял на берегу в Орнесе, связанный одной веревкой с телятами, и снова Сусанну, опять и опять Сусанну. «Когда я умру, ты забудешь меня, но не жди, что забудешь до этого дня». Я вспомнил своего покойного отца, как он работал в саду, который тогда еще принадлежал ему. И неясыть, кричавшую на сетере[4] возле домика Йенни, и то пасмурное утро, когда мы возвращались домой по насту после браконьерской охоты на глухарей. Вспомнил 17 мая 1940 года. Я увидел обнаженную Мэри Брук, взывавшую ко мне с афишной тумбы, Йенни, горько плакавшую, когда я уезжал, ее отца, который утопился где-то под Филипстадом.
И Гюннера, он водит моей рукой, когда я пишу эти строки, он, у которого я отнял все, чем он жил, даже ребенка. Я лежал и вспоминал кафе «Уголок», загадочную женщину, которая хотела накапать что-то в глаза Бьёрну Люнду, и оркестр, исполнявший государственный гимн Финляндии, потому что нельзя было исполнить «Да, мы любим эту землю»[5].
Я писал о людях, которые приходили в «Уголок». И я счастлив, что был знаком с ними. Одних бросили в тюрьмы, других поставили к стенке, никогда уже они не придут в «Уголок», но тени их будут вечно витать между столиками. Они исполнили свой долг и, склонив головы, ждали, когда пробьет их час. Не сказав ни «да», ни «нет», они сошли в Царство Мертвых, но даже там отступнику напрасно молить их о прощении.
Как-то незадолго до моего отъезда, темным августовским вечером, я шел по Розенкранцгатен. Меня обогнали две молоденькие девушки, я их не видел, лишь угадывал их силуэты на затемненной улице. Одна из них сказала в этой кромешной тьме: «Всех любить — морока злая, нету лучше слова». Они прошли, но долетевший до меня голос остался как ласка. Я был глубоко взволнован и пошел следом за ними. Произнесенные девичьим голосом в затемненном городе, эти стихи показались мне более живыми, чем когда они были рождены поэтом. Девушки смутно угадывались в темноте — темное пятно на темном фоне, они замедлили шаги и прощебетали друг другу «до свидания».