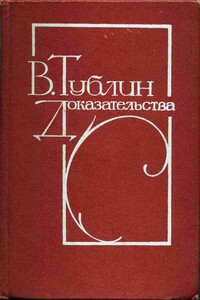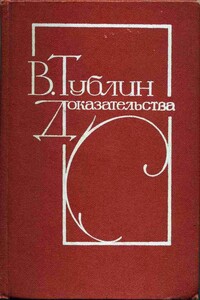Покидая Эдем | страница 58
Почему мы никогда не можем полюбить того, кто любит нас, почему мы не ценим этой любви и готовы променять ее на собственные страдания, даже если они совершенно бессмысленны? А может быть, любовь — это и есть страдание прежде всего…
Тут он слышит подрагивающий голос:
— Можно мне пойти занять для наших очередь за зарплатой?
Не поднимая головы, он говорит:
— Конечно, Люда. Идите…
Значит, сегодня зарплата.
Мы не любим того, кто любит нас. Тот, кого мы любим, любит кого‑то другого. Слишком поздно ты сделал это открытие. Лучше поздно, чем никогда. Это открытие, из которого ни один человек не сможет извлечь практической пользы, ты сделал 1 февраля 1972 года. Тебе помогла его сделать техник Комиссарова, 22 года. И она не открыла еще для себя того закона, который открыл ты. А может быть, женщины толкуют этот закон по‑своему?
Если бы он захотел… но он не хочет. Нет.
Зарплата, зарплата, зарплата. Это хорошо.
Но что же это все‑таки было? Это было давно. Когда? Это связано с окном. Нет, не помню. Это было сразу после войны. Как давно это было…
И снова Блинов сидит, застыв на своем рабочем месте, на стуле, на котором ему еще сидеть и сидеть годы, а может, и десятилетия. Руки его сами производят обычную, механическую, не требующую умственных усилий работу — открепляют ли они лист испорченного ватмана, вытаскивая из мягкого дерева чертежной доски три разноцветные кнопки, двигают ли большую, бесшумно скользящую на латунных роликах линейку, вытягивают ли из острого грифельного жала линии — вертикальные и горизонтальные. Руки его работают, проводя толстые, тонкие и выносные линии, деревья в виде кружочков все гуще и гуще заполняют чертеж.
Слева от него окно, огромная прозрачная перегородка между ним и остальным миром на высоте тридцати метров. Тумана уже нет, сверху ему видны маленькие сплюснутые фигурки, без видимого смысла снующие туда и сюда по маленьким, словно только что нарисованным на чертеже, тротуарам.
Да, он смотрел сверху вниз и вдаль, и что‑то шевелилось в нем самом, словно камень упал в воду и канул на дно, — круги по поверхности все шире и шире, а снизу к поверхности, как взрыв, устремился слежавшийся годами ил воспоминаний.
Да, он помнил это — он сидел у окна. Но что это было за окно, что он видел и в какой связи находилось все это с последующими его поступками, когда он действовал словно бы против своей воли? Прошлое было похоже на плотно слежавшийся ил. Был ли смысл подниматься ему к поверхности памяти? Прошлое было замком за семью печатями, а может быть, их было и много больше, чем семь. Может быть, их насчитывалось десять, пятнадцать или двадцать шесть, если считать по году на каждую печать. Когда ж это могло все быть, неужели в сорок пятом году? А если это действительно в сорок пятом, подумал он, то как бы стал он жить, если бы знал, что через двадцать шесть лет найдет себя сидящим на этом вот стуле у окна, похожего на большую стеклянную стену, отделяющую его от мира.